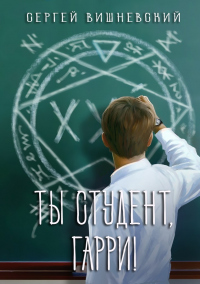Шрифт:
Закладка:
Вы любите музыку? А знаете ли вы, как она звучала в Париже в первой половине XX века? Как русские композиторы, жившие в эмиграции, относились к модернизму и традициям? Как они сотрудничали или соперничали с Игорем Стравинским, самым влиятельным музыкантом своего времени? Как они реагировали на советскую пропаганду и культурную дипломатию?
Эти и многие другие вопросы освещает книга Клары Мориц «На орбите Стравинского. Русский Париж и его рецепция модернизма». Это увлекательное исследование транснационального эмигрантского пространства, в котором жили и творили Владимир Дукельский, Сергей Прокофьев, Николай Набоков, Артур Лурье и другие русские композиторы. Автор анализирует их музыкальные произведения, письма, дневники, интервью, рецензии и другие документы, показывая, как они балансировали между модернистским нарративом и нарративом изгнания, как они строили свою идентичность и репутацию в Париже.
Книга написана на основе диссертации автора, защищенной в Университете Шеффилда (Великобритания) в 2020 году. Она адресована не только специалистам по музыковедению, но и всем, кто интересуется русской культурой и ее взаимодействием с западной. Книга содержит 77 иллюстраций, богатый библиографический аппарат и предисловие известного русиста Филипа Росса Балла.
Вы можете читать книгу онлайн на сайте knizhkionline.com. Не упустите возможность погрузиться в атмосферу русского Парижа и услышать его музыку!