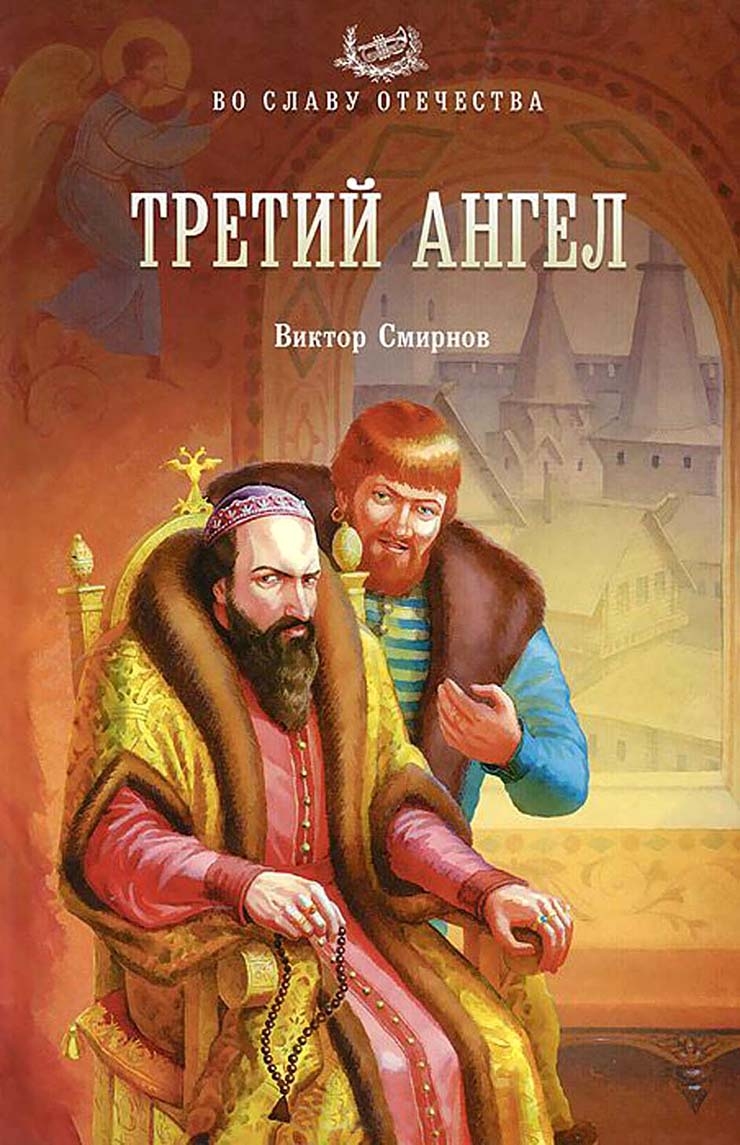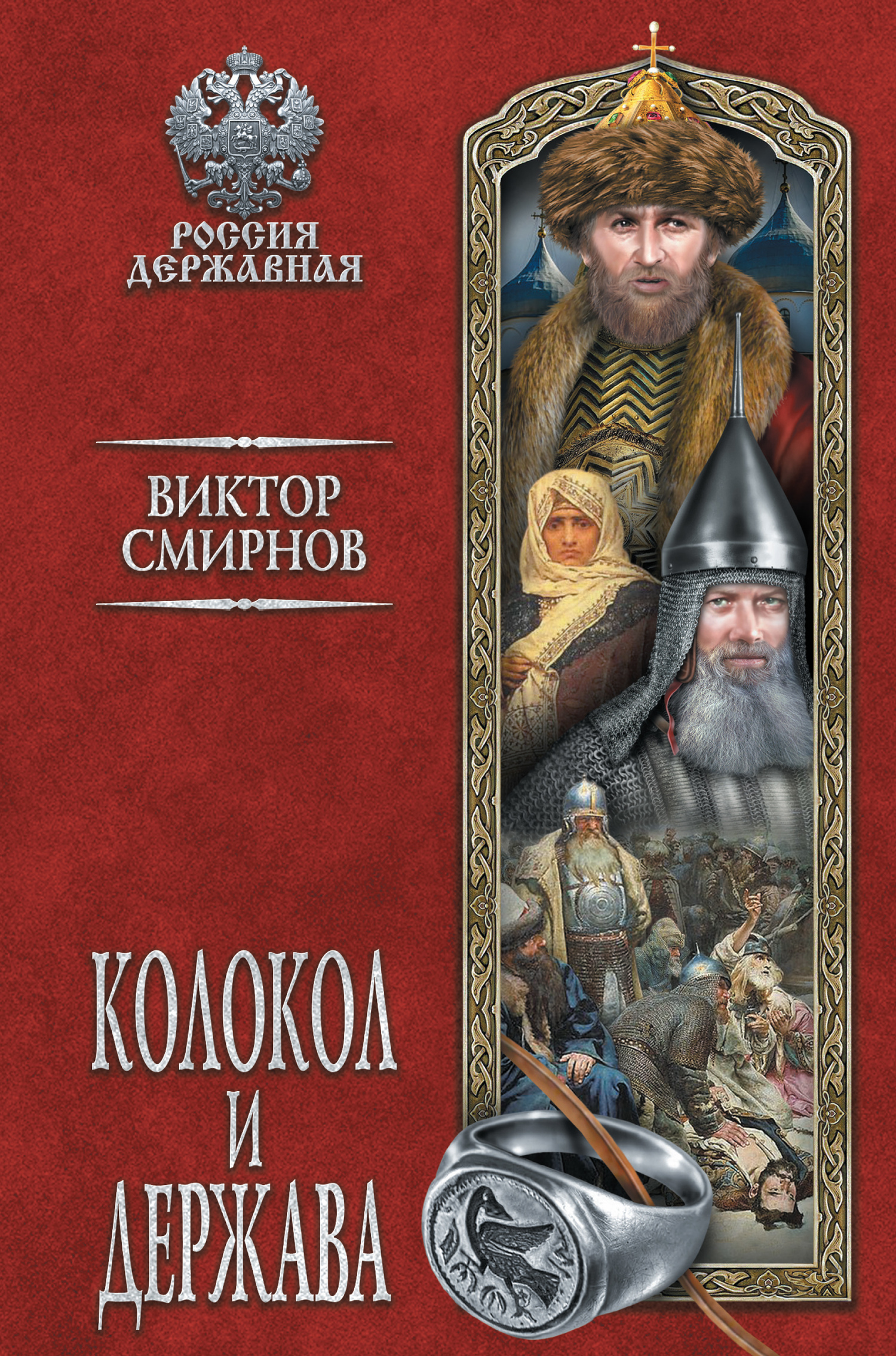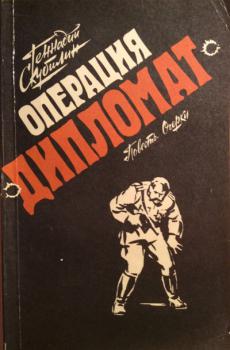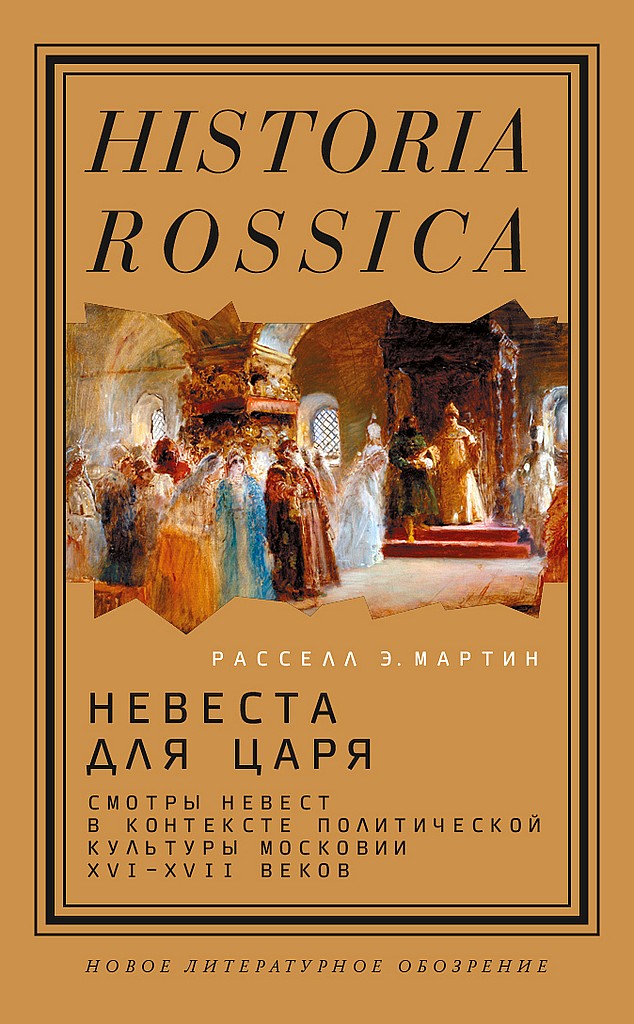Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
1569 год. Московская Русь переживает одни из самых мрачных страниц своей истории. Опричнина, учреждённая царём Иваном, раздирает страну и общество на противоборствующие лагеря. Ливонская война проиграна, всюду раздор и смута, потомственные аристократы бегут тайно и явно на Запад в надежде переждать, пересидеть нелёгкое время. Кровавые расправы над непокорными и вольнодумцами омывают страну. Что же это? Сумасшествие правителя?.. Расправа с возможными противниками?.. Или стратегический план спасения русского государства?.. Известный писатель-историк Виктор Смирнов даёт собственную, оригинальную трактовку давних событий, приведших Русь-Россию к политической катастрофе, известной нам как Смутное время.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Виктор Григорьевич Смирнов»: