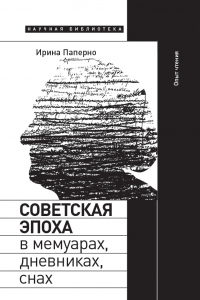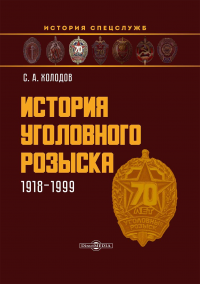Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
За последние десятилетия, начиная c перестройки, в России были опубликованы сотни воспоминаний, дневников, записок и других автобиографических документов, свидетельствующих о советской эпохе и подводящих ее итог. При всем разнообразии они повествуют о жизнях, прожитых под влиянием исторических катастроф, таких как сталинский террор и война. После падения советской власти публикация этих сочинений формировала сообщество людей, получивших доступ к интимной жизни и мыслям друг друга. В своей книге Ирина Паперно исследует этот гигантский массив документов, выявляя в них общие темы, тенденции и формы. Среди множества публикаций автор отдельно рассматривает два, выбрав их за эмоциональную силу, масштабность мышления и литературный дар: знаменитые «Записки об Анне Ахматовой» Лидии Корнеевны Чуковской и тетради Евгении Григорьевны Киселевой, полуграмотной пожилой крестьянки, решившей предоставить материал для сценария фильма о своей жизни. Обнаруживая удивительные параллели и контрасты между этими произведениями, автор показывает, как советская история и советское государство формировали судьбы столь разных во многих отношениях людей. Одним из важных сюжетов книги стали толкования снов, в которых тоже не обошлось без вторжения государства и истории – в основном это были кошмары. Подобные сны видели и крестьяне, и партийные лидеры, и известные писатели и, наконец, сам Иосиф Сталин. Ирина Паперно – литературовед, историк идей, профессор кафедры славистики Калифорнийского университета в Беркли.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Ирина Паперно»: