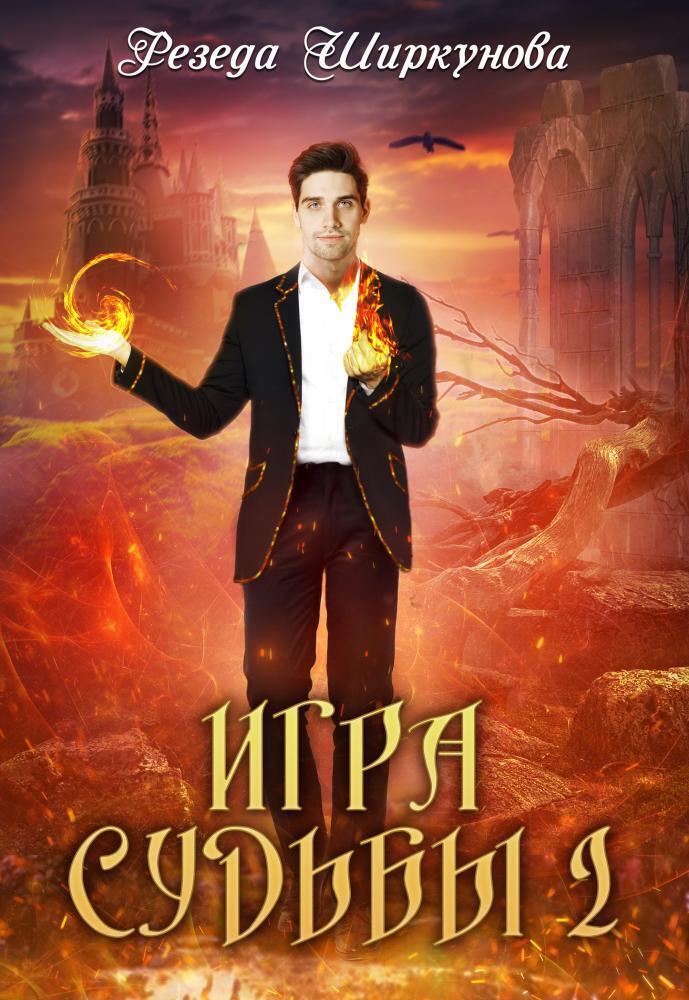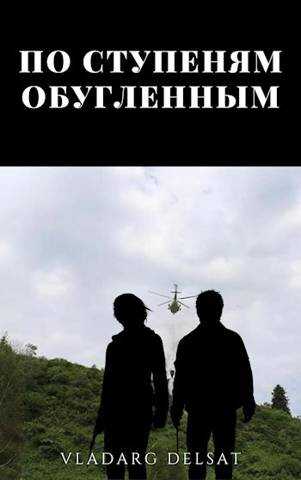Шрифт:
Закладка:
Григорий – сын олигарха, привыкший прожигать жизнь и забывший о том, что истинное счастье заключается в простых вещах, таких как дружба, любовь и поддержка близких. Очередная выходка сына стала последней каплей, и отец решил обратиться за помощью к профессионалам. За перевоспитание избалованного молодого человека берется команда специалистов под руководством психолога, практикующего шоковые методы воздействия на пациентов. Столичный мажор попадает в аварию и приходит в себя на деревенской конюшне. На дворе 1860-й год, а сам он – Гриша-холоп, служащий конюхом, которому за любое неповиновение с удовольствием готовы всыпать плетей. Здесь Грише не помогут ни деньги, ни отцовские связи. Кажется, пришло время сполна расплатиться за свои легкомысленные поступки и безрассудство. В ваших руках официальная новеллизация фильма «Холоп», самой кассовой комедии российского кинопроката.