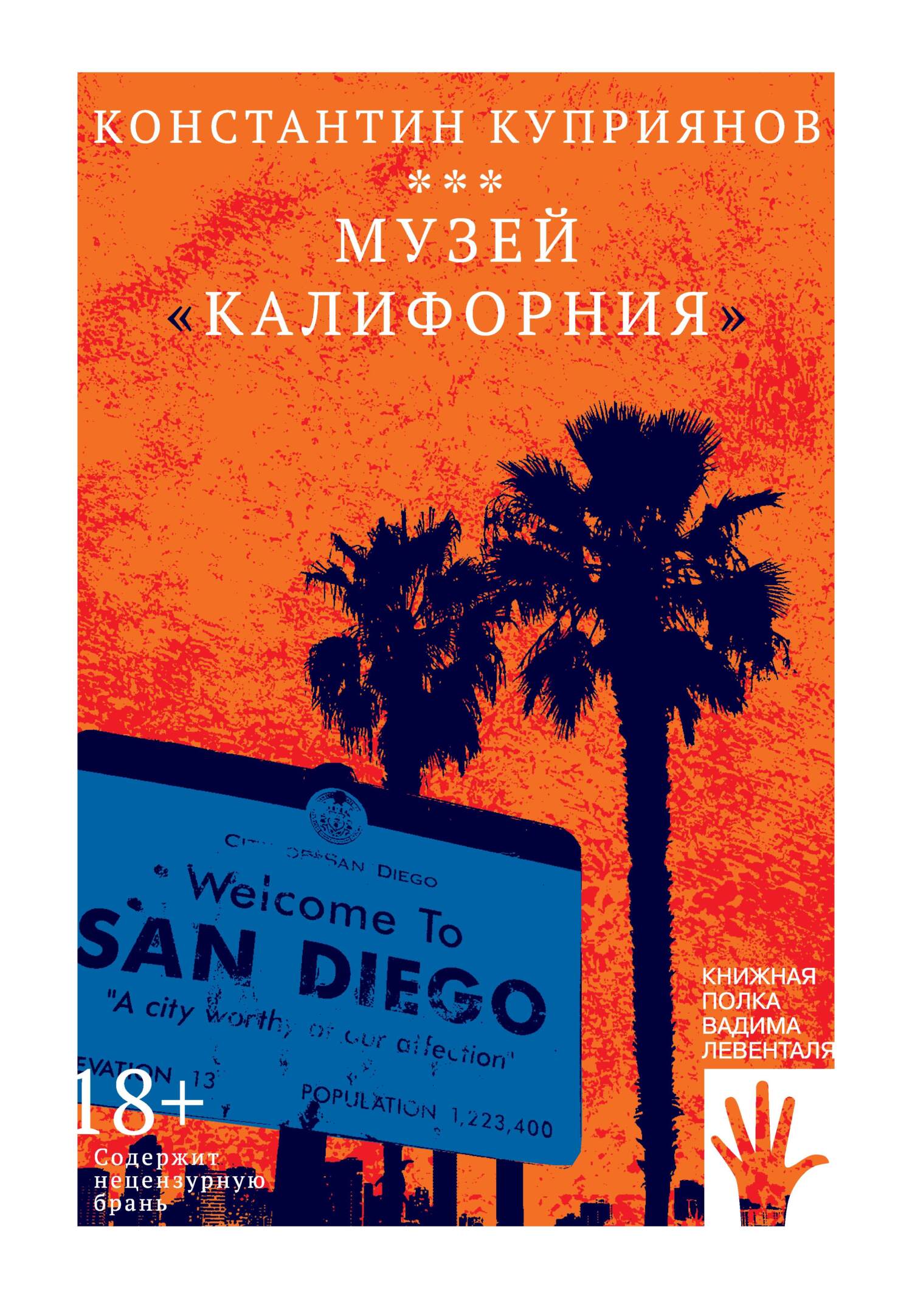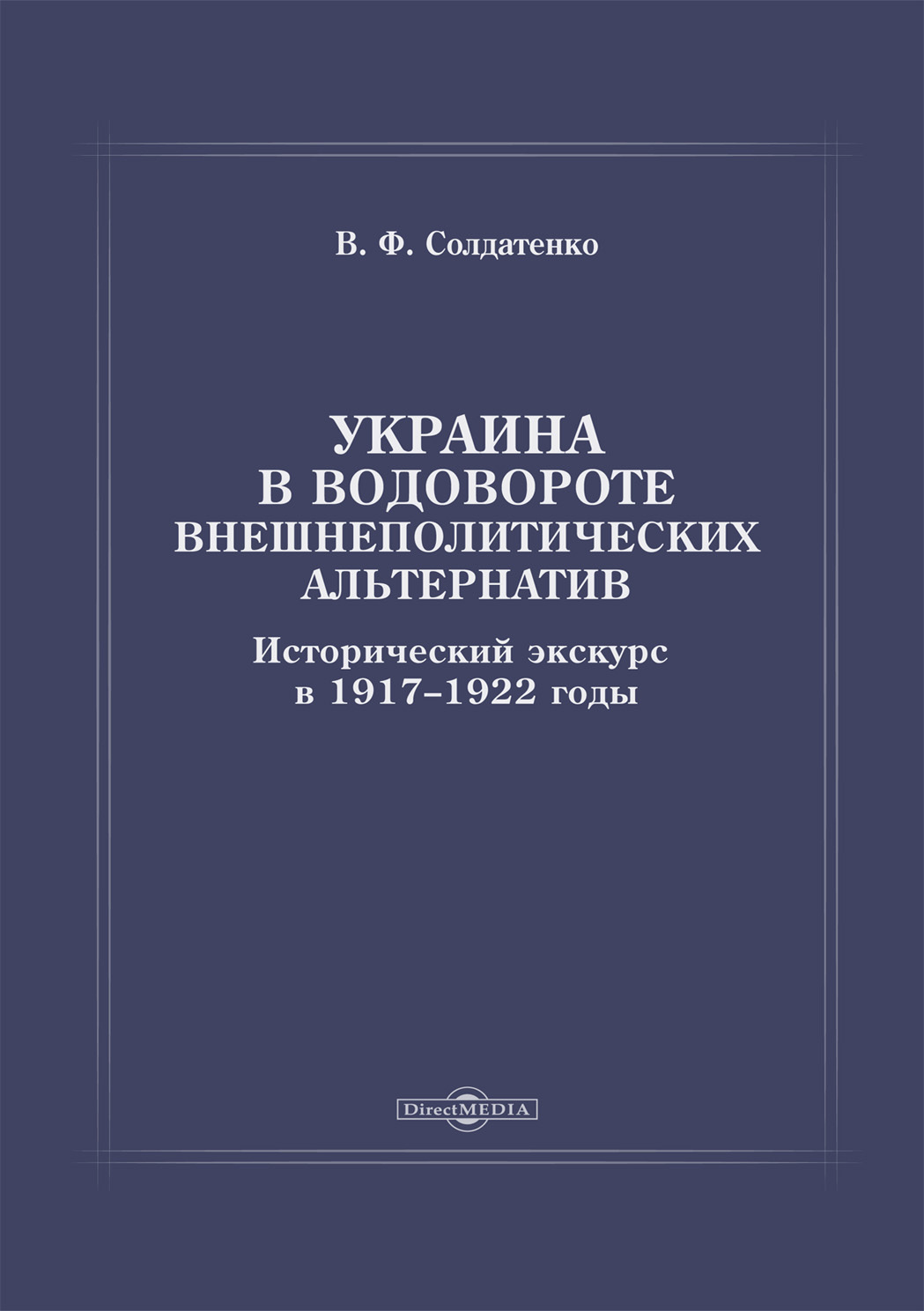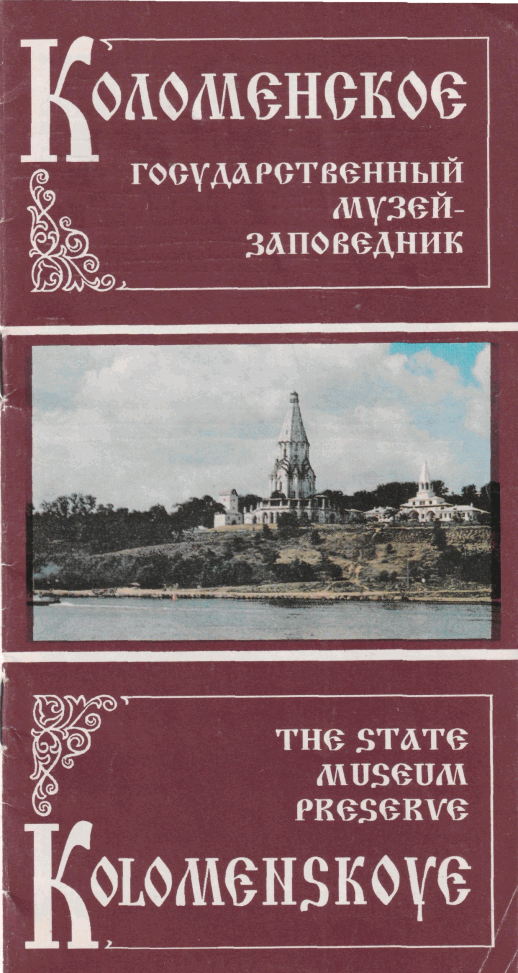Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Эта книга о том, как фотомонтаж стал одним из самых востребованных жанров в середине 1920-х годов. Соединив в себе документальность (фотографии) и артистизм (фотомонтера), он предложил новый взгляд на реальность: взгляд, в котором разно-родность вещей усиливалась их разно-видностью. Используя фотомонтаж в качестве основного примера, книга прослеживает возникновение оптического поворота и формирование новой «культуры глаза» в первые пятнадцать лет после Октябрьской революции.В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Сергей Александрович Ушакин»: