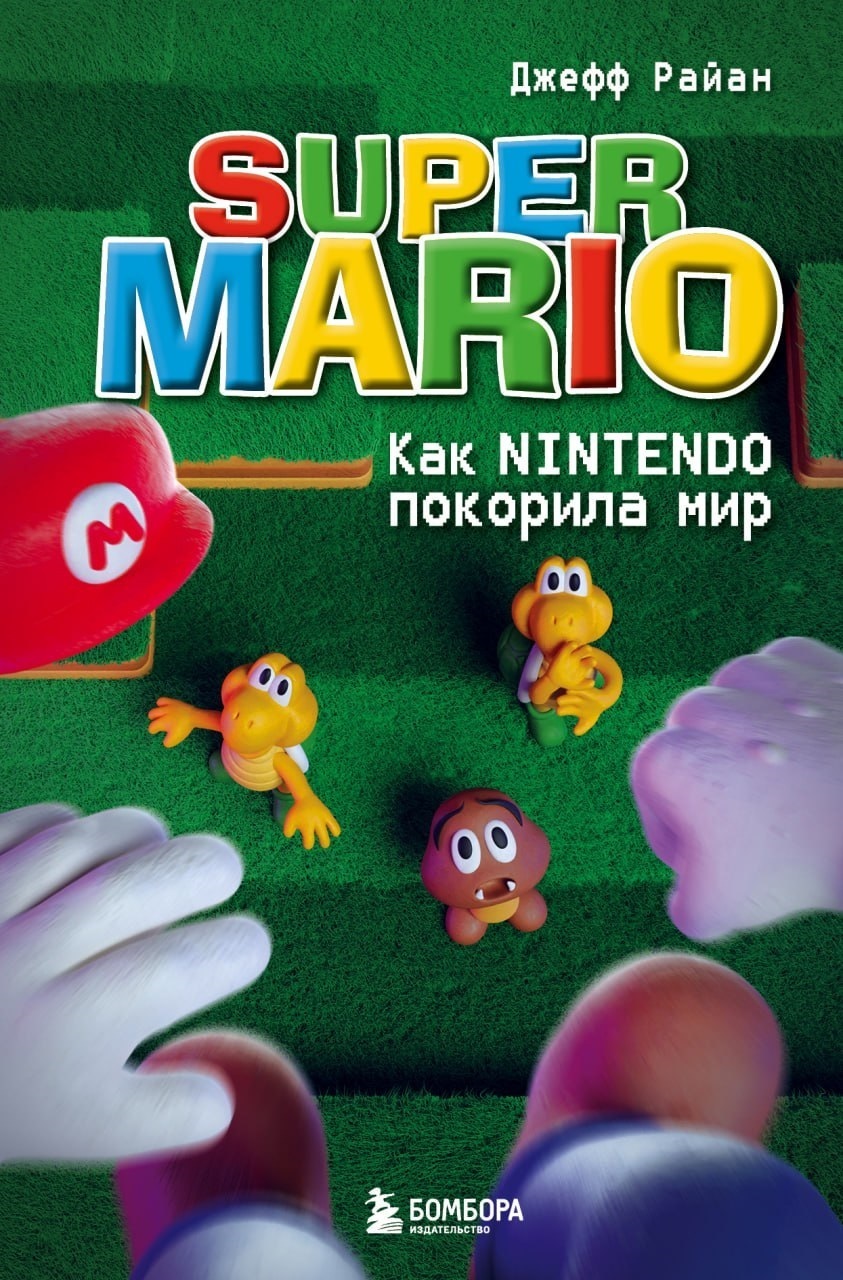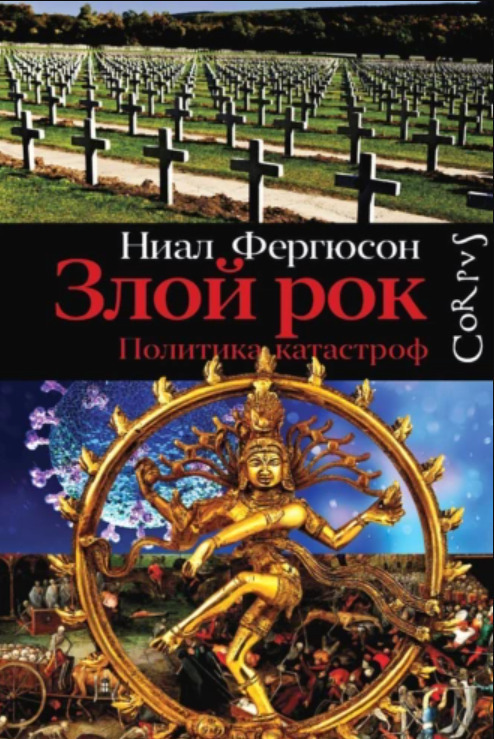Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Социология – это наука, живущая настоящим, история – прошлым. Что будет, если посмотреть на исторический материал через призму социологических теорий? Книга, которую вы держите в руках, – есть реализация этой идеи. Куда, с точки зрения современной стратиграфической теории, отнести евнухов султана Сулеймана Великолепного? Upper middle class? Что общего у индейского потлача и «черной пятницы»? Какие социальные лифты действовали в Советском Союзе? Правда ли, что русские и украинцы – братские народы? Использование социологических методов может пролить свет на эти вопросы.В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Вадим Викторович Долгов»: