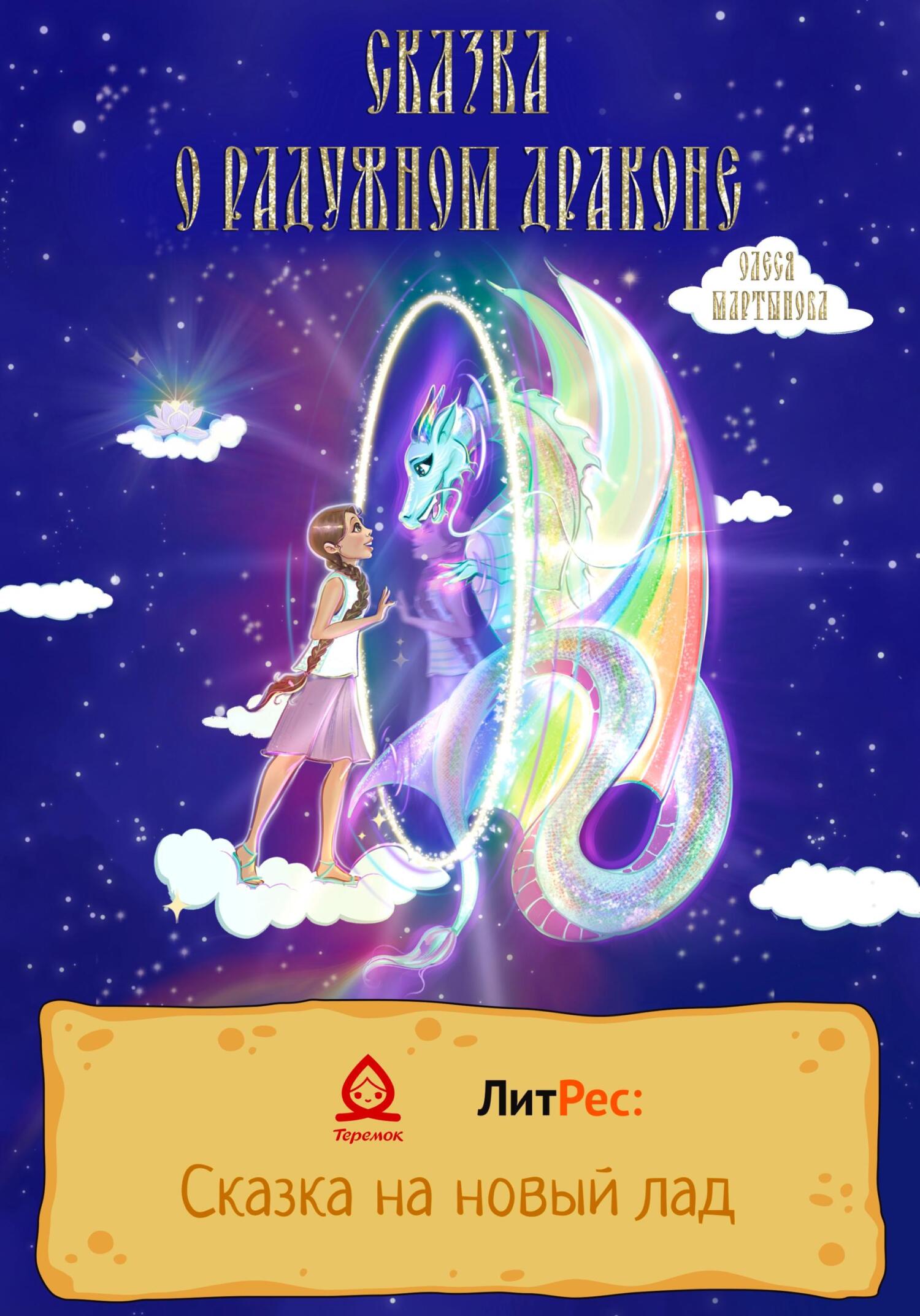Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
«Механическая осень» — антология фантастических рассказов, объединённых двумя главными темами: «Роботы» и «Осень». Поэтому не стоит удивляться, встретив на её страницах призраков в парке или роботов, живущих на руинах человечества. Однако третья тема антологии — «Сводная». Так что здесь найдётся место и «лавкрафтовскому» боевику, и «виртуальному» детективу, и фэнтези, и мистике, и даже биопанку. И не только этому.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Дарья Странник»: