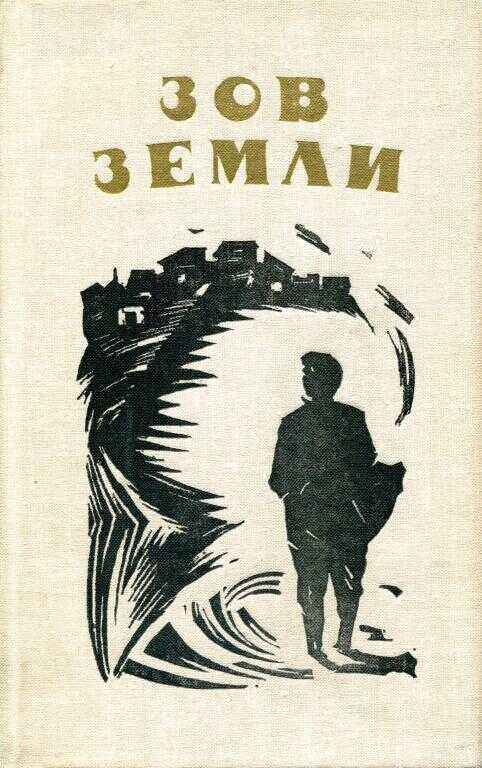Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
В сборник включены повести и рассказы уже известных советскому читателю индийских прозаиков Бхишама Сахни, Пханишварнатха Рену, Камалешвара, а также нескольких дебютантов, в том числе лауреата премии Литературной академии Индии за 1980 г. Кришны Собти. Произведения, включенные в сборник, знакомят со многими аспектами жизни современной Индии — страны развивающейся и преодолевающей тяжелое наследие прошлого.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Камалешвар»: