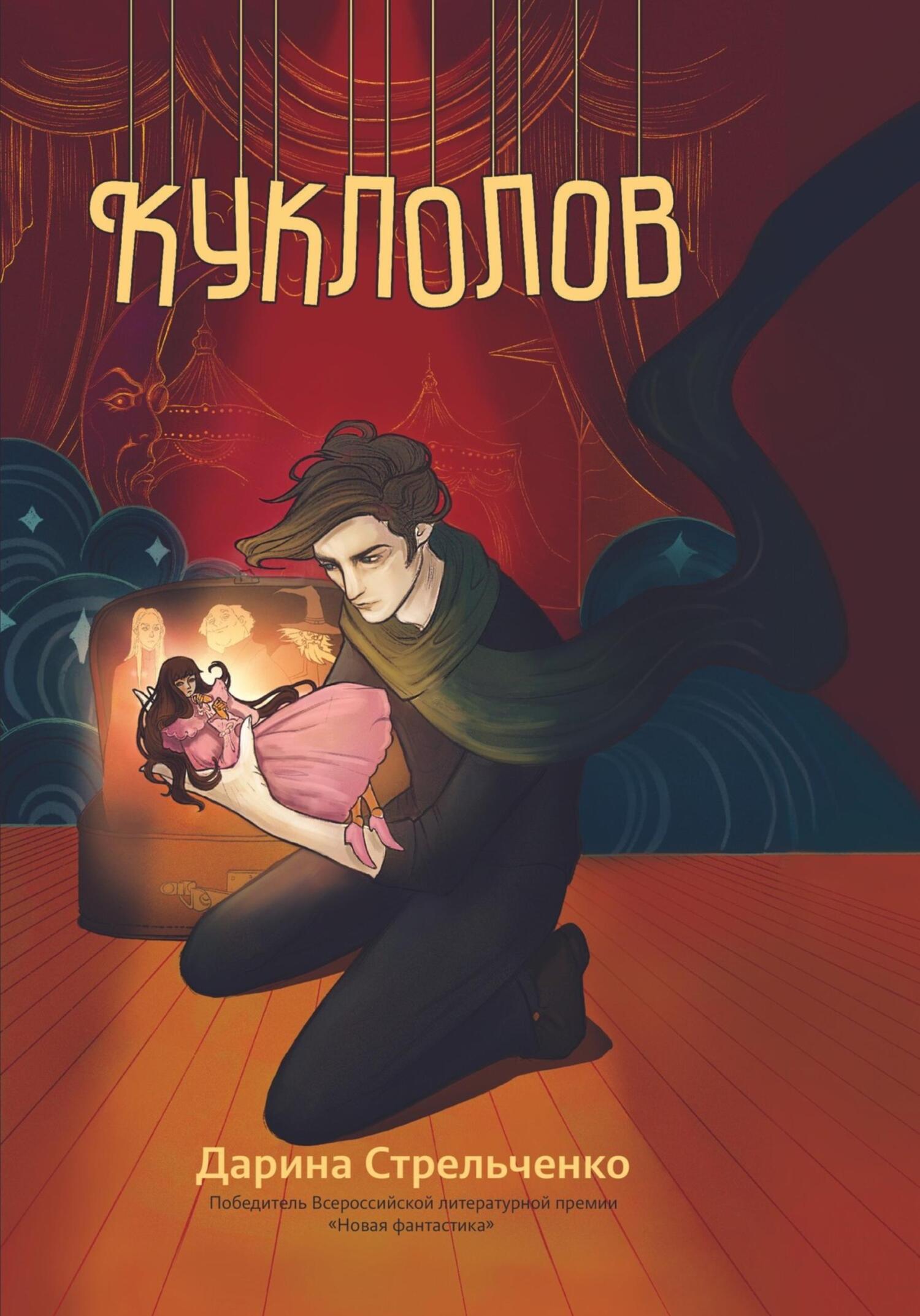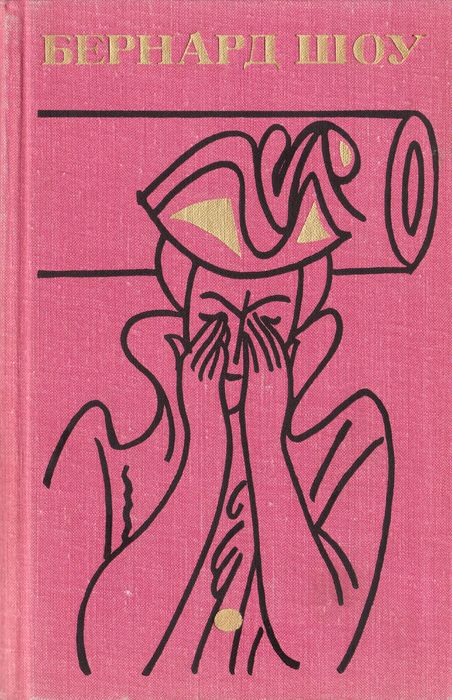Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Восемнадцатилетний Олег получает в наследство от отца четырёх театральных кукол – персонажей пьесы, в которой есть ещё три героя. Ненавидящий всё, связанное с кукольным театром, постепенно Олег проникается желанием собрать коллекцию, даже не замечая, что далеко не всегда действует по своей воле.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Дарина Александровна Стрельченко»: