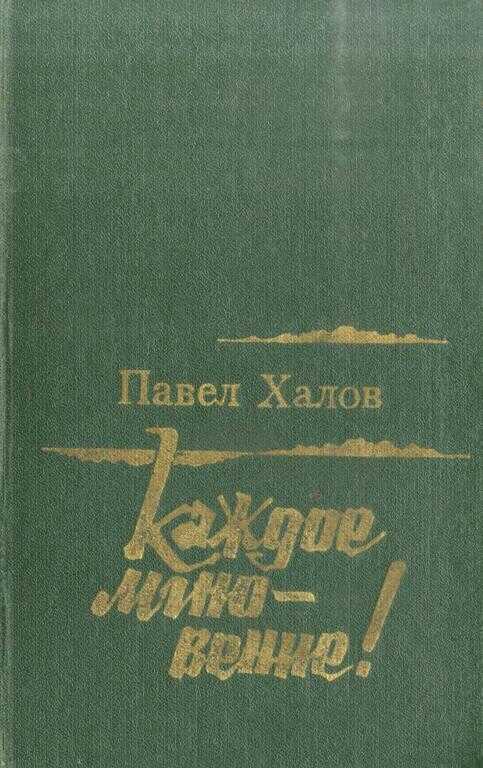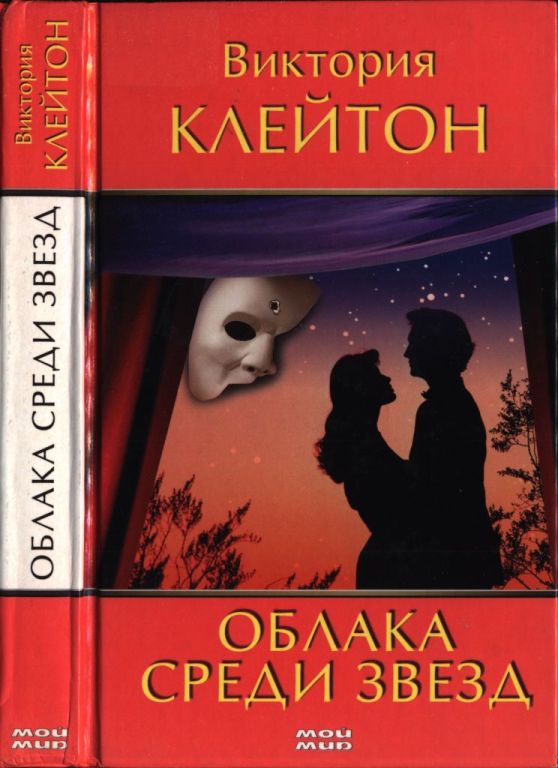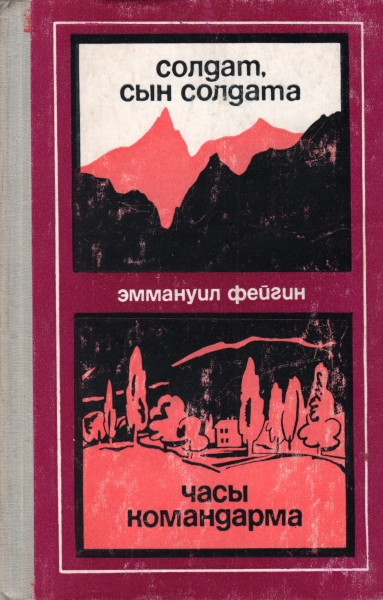Шрифт:
Закладка:
Стоппен немножко поигрывал в этакого домашнего старичка — и свитерок, и покашливание для себя самого, наверное. Когда расселись его гости, он сказал:
— Что же мне с вами, голубушка моя, делать? Не скоро мы домой придем, не скоро…
Ольга некоторое время с вызовом смотрела на склоненную седую, но почти не полысевшую голову капитана, словно жалея, что он прячет свой взгляд, и ответила неожиданно звонким, нервным, как вся она сама, голосом:
— Ничего со мной делать не надо. Я счастлива, что нахожусь здесь. — Ольга усмехнулась — некрасиво и зло. — Вы знаете, кем я работаю? Я преподаю эстетику! Вы можете себе это представить? Я преподаю эстетику в медицинском институте, и я даже кандидат наук! Вот так! Там действительно заждались меня!
Вовка, возвращаясь с вахты, натолкнулся на Ольгу. Она драила пол — палубу, как называл теперь Вовка все плоскости, по которым ходят и на которых стоят.
— Вы-ы-ы?
— Я, Владимир…
— Что вы тут делаете?
— Как это по-вашему? — Ольга в это время отжимала своими худыми, но цепкими руками швабру, волосы упали ей на глаза, она убирала их локтем. — Драю, — вспомнила. — Я, Володя, драю палубу… Лечусь я, Володя, от спеси и иных таких же заболеваний…
Вовка помогал ей — не отважился пройти мимо своего бывшего преподавателя.
— Вы знаете, она мировая баба! — с сияющими глазами проговорил он, войдя в каюту. — А в институте такая зануда была!
Вовку выгнали из института из-за Салина. Четырнадцать раз он ходил сдавать историю медицины! И не сдал. Предполагая, что не сдаст и в пятнадцатый раз, Вовка выписал на имя Салина, на его домашний адрес, ежемесячный журнал «Свиноводство», подучил его биографию и пошел в пятнадцатый.
— За вами, — сказал ему Салин, — ответ на прошлый вопрос: когда и где в России открылся первый стекольный завод?
— Вы родились в Дальнегорске? — тихо спросил Володя.
— Да, но какое отношение это…
— Имеет, — перебил Володя. — Самое прямое — как раз к первому стекольному заводу. Вы, должно быть, знакомы с Плясуновским? — Плясуновского Володя выдумал сейчас.
— Послушайте, студент…
— Так ведь прадед Плясуновского, Елпидифор Плясуновский, как раз и работал на том заводе — историю медицины стеклодувам преподавал.
И далее — они были в аудитории одни — Володя высказал все, что думал о Салине…
* * *
Беспрерывно шел снег. Снег с ветром по правому крамболу. На глазах, если смотреть из рубки сквозь стекла, которые не успевали очищать центробежные очистители, надстройки, поручни, планшир, такелаж, любой предмет снаружи на глазах обрастал снеговой коркой, увеличивался в размерах, терял свои очертания, и судно казалось отяжелевшим и неуклюжим, хотя для «Ворошиловска» с его тоннажем этого было мало, чтобы нарушить остойчивость и подвижность, просто это ветер придерживал его в ходу, отбивал ему нос в сторону, и рулевым приходилось тщательнее следить за курсом. На «Ворошиловске» запахло сушившейся одеждой и обувью тех, кто ходил на околку льда — снег, налипший на все возможное, очень быстро становился льдом, рыхлым, слоистым. Стоило ткнуть ломом в ледяное бревно, наискосок идущее к стеньге мачты, и груда льда — влажного, слоистого, белого даже на изломе, обрушивалась на головы работающих, на палубу, валилась за борт тоже на лед, с редкими промоинами чистой воды и почти невидной из-за пурги и вновь возникала на некоторое время тонкая, поющая под ветром снасть. Разваливался неуклюжий сугроб, и это оказывались лебедка или шпиль. И вновь росли сугробы у надстроек, а шлюпки на рострах превращались в огромные белые неровные шары.
«Ленкорань» давала свои координаты, погоду в районе и сообщала, что пока все нормально, траулеры «Кухтуй», «Омуль», «Синус» встали в середину каравана. Сильное обледенение. Лед подвижен.
Лед за бортом шуршал, шумел, ухал тяжело и мокро, и так громок был этот шум, что, разговаривая, даже сгрудившись у подветренной стороны надстройки, надо надсаживать голос. Везде слышался этот шорох, даже в кают-компании. В красном уголке крутили фильмы, которые смотрели пять или шесть человек. Но даже самые настырные по части кино засыпали в конце сеанса — уставали.
Любоваться белым, едва колышущимся морем, звездами было некому: с палубы ушли все — они давние «ледокольцы», уже попривыкли. А Коршак и Ольга остались. Справа и слева скользили до льду, подкрашивая его, зеленый и красный ходовые огни. Они стояли у левого борта и, уже отражаясь ото льда совсем слабым отблеском, красный ложился на их лица. Коршак снял рукавицу и вытянул руку, и она засветилась отраженным летучим светом, словно рука сама была источником этого света.
Ничего подобного Коршак не видел — ему ни разу, даже с Феликсом на «Памяти Крыма» не приходилось попадать в лед — в снежные заряды попадал. Они случались и намного южнее этой нынешней широты, южнее полуострова, случались и при совершенно чистом ото льда море и ясном небе, вот так же возникнув неизвестно откуда, белая пена закрывает палубу, нос судна, и кажется, точно одна рубка сама по себе возвышается над белой кутерьмой.
Как живые, шевелились льды, лезли друг на друга, крошась, скрипя, хлюпая, растирая друг друга в крупу, точно ненавидя, и то в одном, то в другом месте начинала расти гора. Казалось, еще немного и гора эта примет облик чего-то стройного, законченного — может, это будет здание причудливое, но совершенное, может — дерево. Но у строителя не хватало терпения довести дело до конца, — сооружение разламывалось, рассыпалось, опадало с усиленным стеклянным шорохом, и через несколько секунд нельзя было отыскать взглядом место, где оно зарождалось…
— На палубе! — пророкотал металлически динамик. — Всем свободным от вахты отдыхать!
— Вы правда не жалеете, Ольга, что попали сюда? — спросил Коршак.