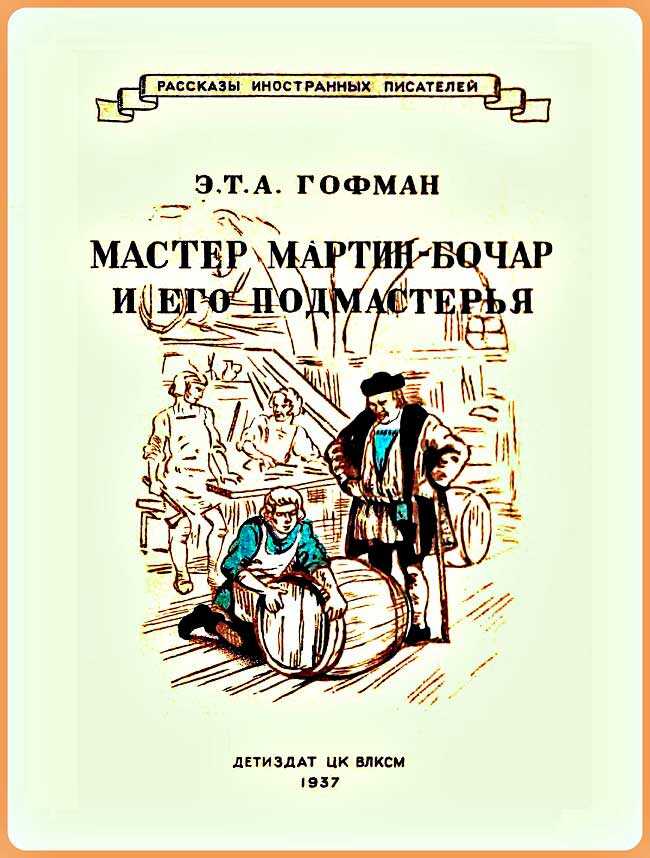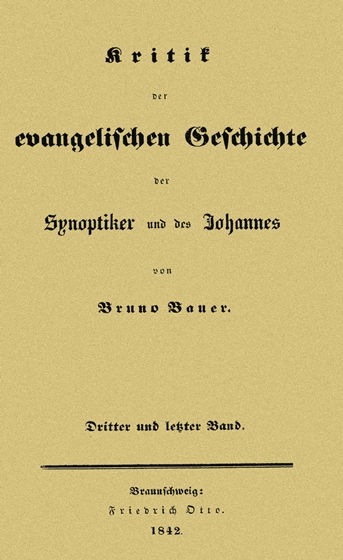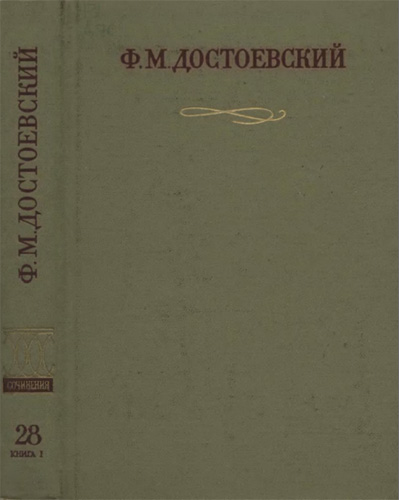Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
В данном издании представлен роман Эликсиры сатаны, посвященный любимой для Гофмана теме разрушительному действию темной половины человеческой личности. Причем вторжение зла в душу человека обуславливается как наследственными причинами, так и действием внешних, демонических сверхъестественных сил. Главное действующее лицо монах Медардус, случайно отведав таинственной жидкости из хрустального флакона, становится невольным носителем зла. Повествование, ведущееся от его лица, позволяет последовать по монастырским переходам и кельям, а затем по пестрому миру и испытать все, что перенес монах в жизни страшного, наводящего ужас, безумного и смехотворного…Адресована всем, кого притягивает мир таинственного и необычного.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Эрнст Теодор Амадей Гофман»: