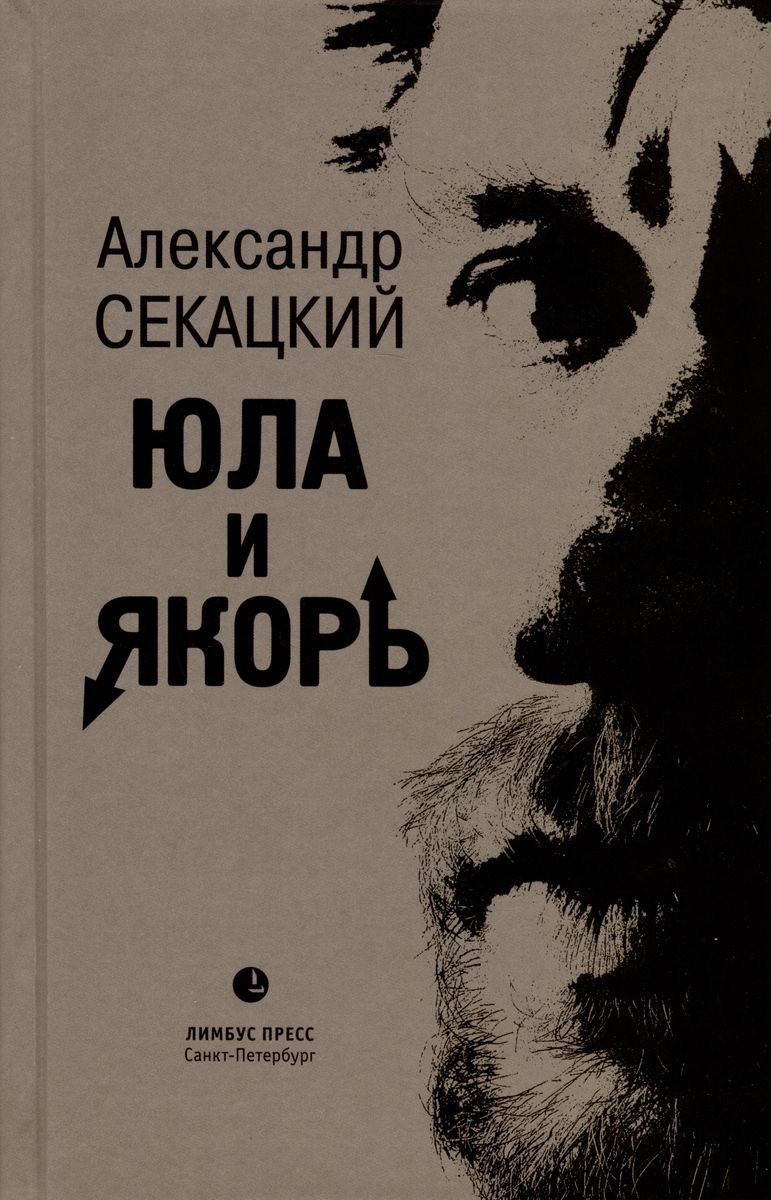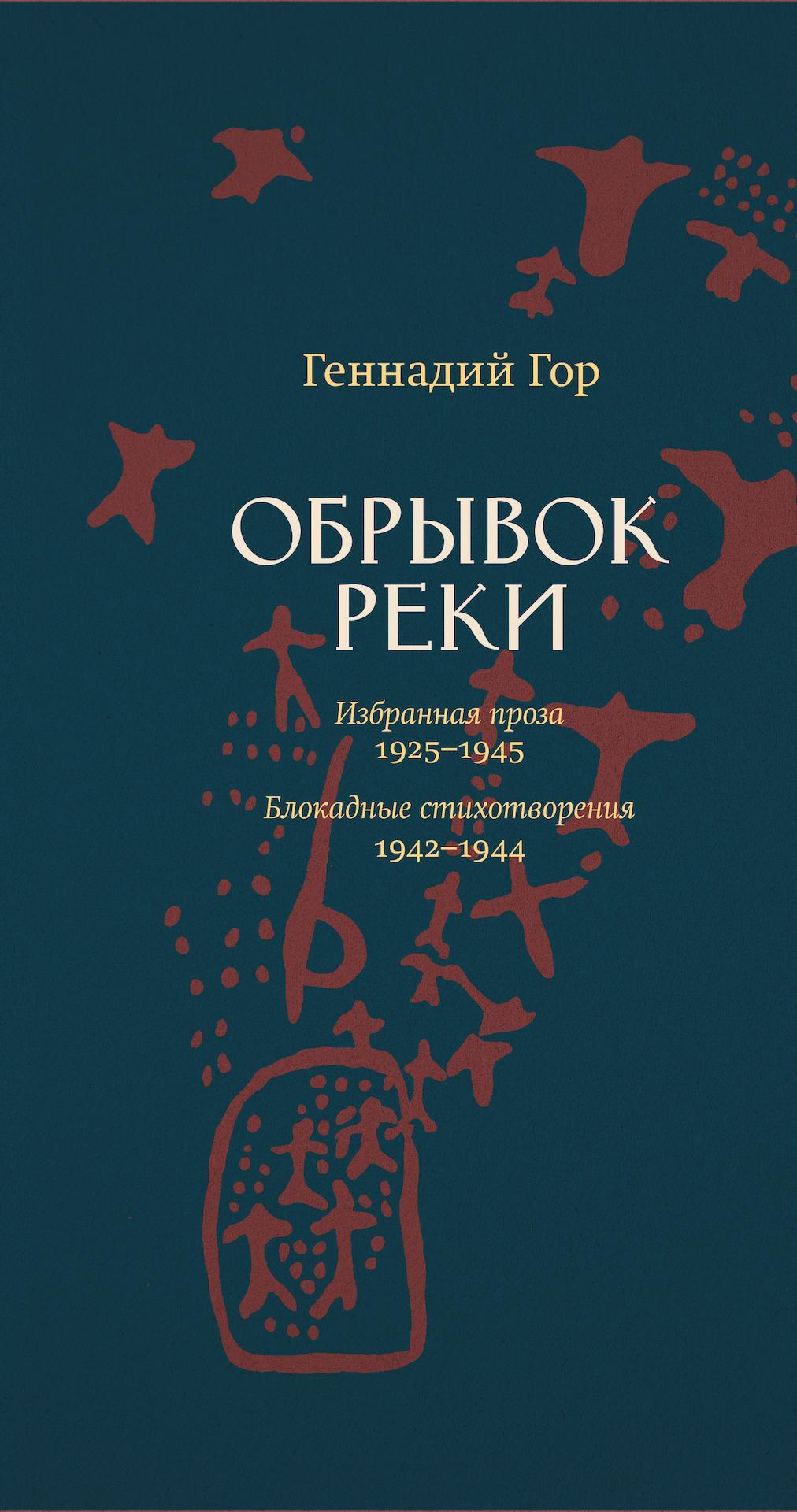Шрифт:
Закладка:
Вы любите философские книги, которые заставляют вас задуматься о смысле бытия и мироустройстве? Вы хотите прочитать книгу, которая предложит вам новый взгляд на самые обычные вещи и явления? Вы хотите познакомиться с оригинальными метафорами и концепциями, которые помогут вам понять себя и окружающий мир?
Тогда эта книга для вас!
«Юла и якорь. Опыт альтеративной метафизики» – это увлекательная и глубокая книга Александра Куприяновича Секацкого, философа, лауреата премии Андрея Белого. В этой книге автор пытается на примере самых обычных вещей, таких как якорь и юла, разобраться, как устроен человеческий мир в целом.
В этой книге вы узнаете, как якорь может служить базисной метафорой мышления, которая помогает удерживать предмет мысли в его самотождественности. Вы узнаете, как юла может служить архетипом человеческого бытия, которое характеризуется движением и самостоятельностью. Вы узнаете, как эти две метафоры связаны между собой и как они отражают различные аспекты реальности.
В этой книге вы также найдете множество других интересных разделов, посвященных вопросам чтения и текста, проблеме истины в экзистенциальном и историческом ключе, а также различным философским концепциям и авторам. Вы найдете для себя новые знания и идеи, которые расширят ваш кругозор и подарят вам интеллектуальное наслаждение.
«Юла и якорь. Опыт альтеративной метафизики» – это книга, которая не только расскажет вам о прошлом и настоящем философии, но и заставит задуматься о будущем человечества. Это книга, которая откроет вам новые грани мышления и бытия.
Читайте книгу онлайн на сайте knizhkionline.com – это удобно, быстро и бесплатно!