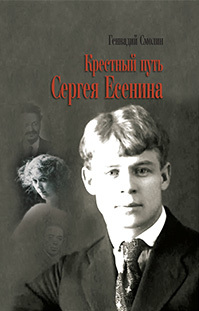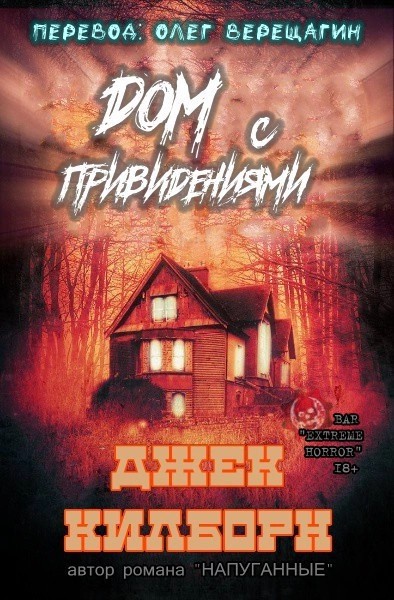Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Увлекательная книга Геннадия Смолина «Крестный путь Сергея Есенина» представляет собой художественно-публицистическое расследование. Новые факты из архивов, документы и оценки экспертов наконец-то помогли сорвать тщательно сотканный «маскировочный» флёр неправды с фигуры русского поэта Сергея Есенина.И перед нами открылась трагическая судьба неугодного для революционной части правящей верхушки новой России, опасного и вредного для нее стихотворца. Гонимый и преследуемый, он не отказался ни от своего поэтического дара, ни от человеческого «я».
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Геннадий Александрович Смолин»: