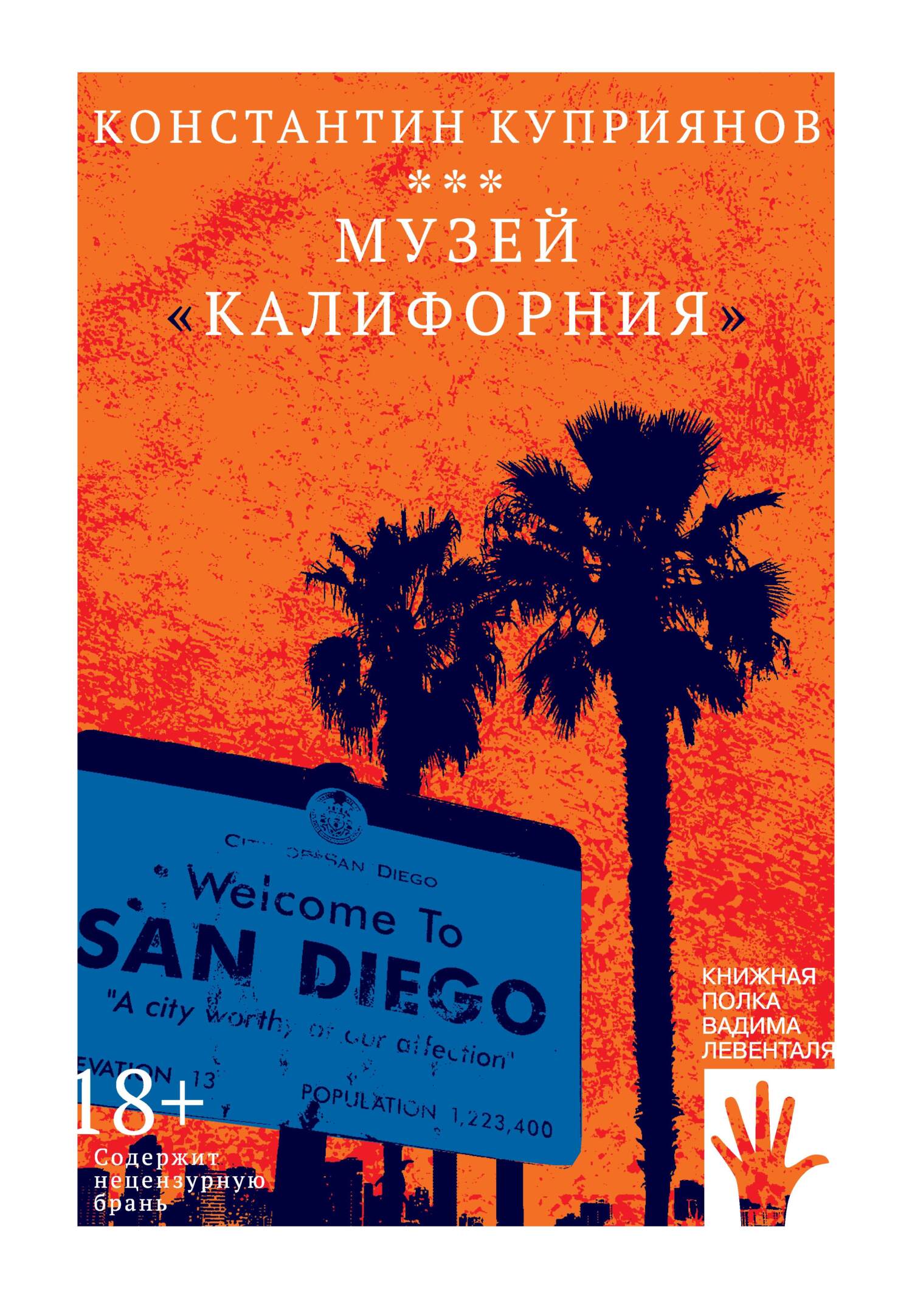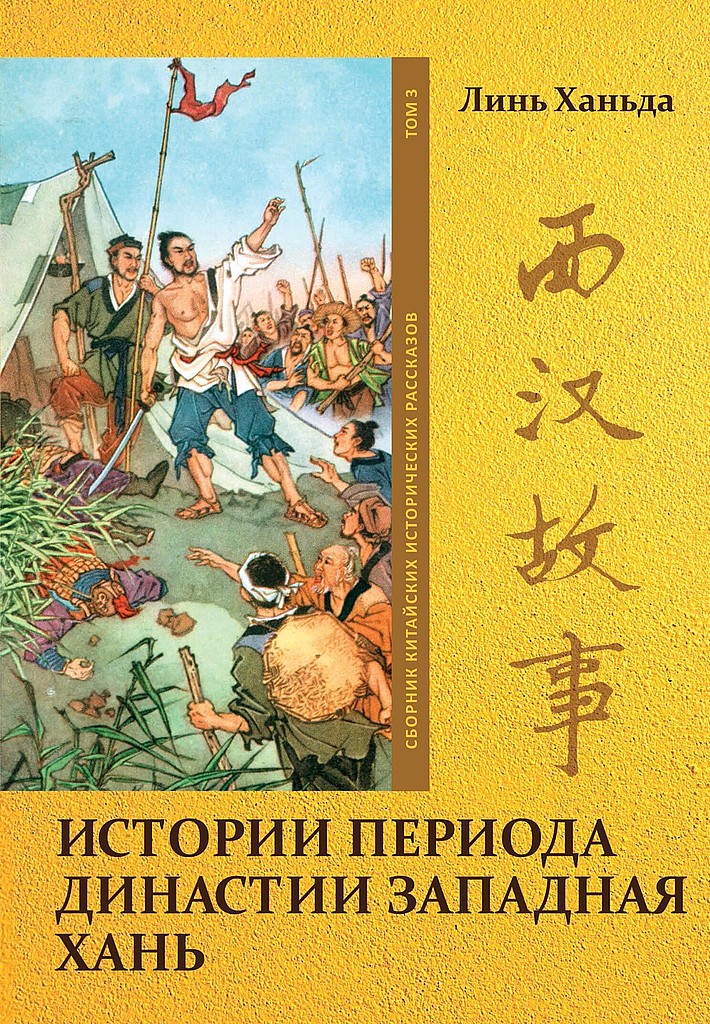Шрифт:
Закладка:
В своей книге, ставшей частью канонического списка литературы по постколониальной теории, Дипеш Чакрабарти отрицает саму возможность любого канона. Он предлагает критику европоцентризма с позиций, которые многим покажутся европоцентричными. Чакрабарти подчеркивает, что разговор как об освобождении от господства капитала, так и о борьбе за расовое и тендерное равноправие, возможен только с позиций историцизма. Такой взгляд на историю – наследие Просвещения, и от него нельзя отказаться, не отбросив самой идеи социального прогресса. Европейский универсализм, однако, слеп к множественности истории, к тому факту, что модерность проживается по-разному в разных уголках мира, например, в родной для автора Бенгалии. Российского читателя в тексте Чакрабарти, помимо концептуальных открытий, ждут неожиданные моменты узнавания себя и своей культуры, которая точно так же, как родина автора, сформирована вокруг драматичного противостояния между «прогрессом» и «традицией».