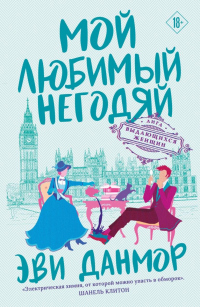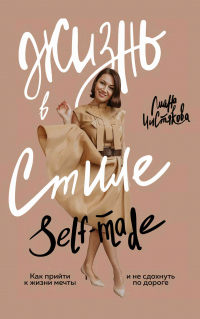Шрифт:
Закладка:
Гендер, деколонизация, привилегии, фэтшейминг. Попав из академических статей в повседневный обиход, эти слова все сильнее влияют на наше восприятие мира. Но откуда они вообще взялись? Их источник – россыпь критических теорий, возникших в ходе постмодернистского поворота с его проблематизацией власти, знания и истины. Ничто – от секса и учебников истории до медицинских диагнозов и архитектуры – не может укрыться от активистов, задавшихся миссией выявить и уничтожить любые формы угнетения. Хелен Плакроуз и Джеймс Линдси считают, что, несмотря на благое желание сделать мир чуточку справедливее, критические теории с их практически религиозным рвением и черно-белым восприятием мира представляют угрозу как для академии, так и для общества. «Циничные теории» – это кропотливый и бойкий разбор основных постулатов «активистской науки», ее внутренней логики и противоречий. Эта книга поможет погрузиться в современный интеллектуальный контекст, понять, чем руководствуются стороны культурных войн, и не теряться в спорах на ускользающие от понимания темы.