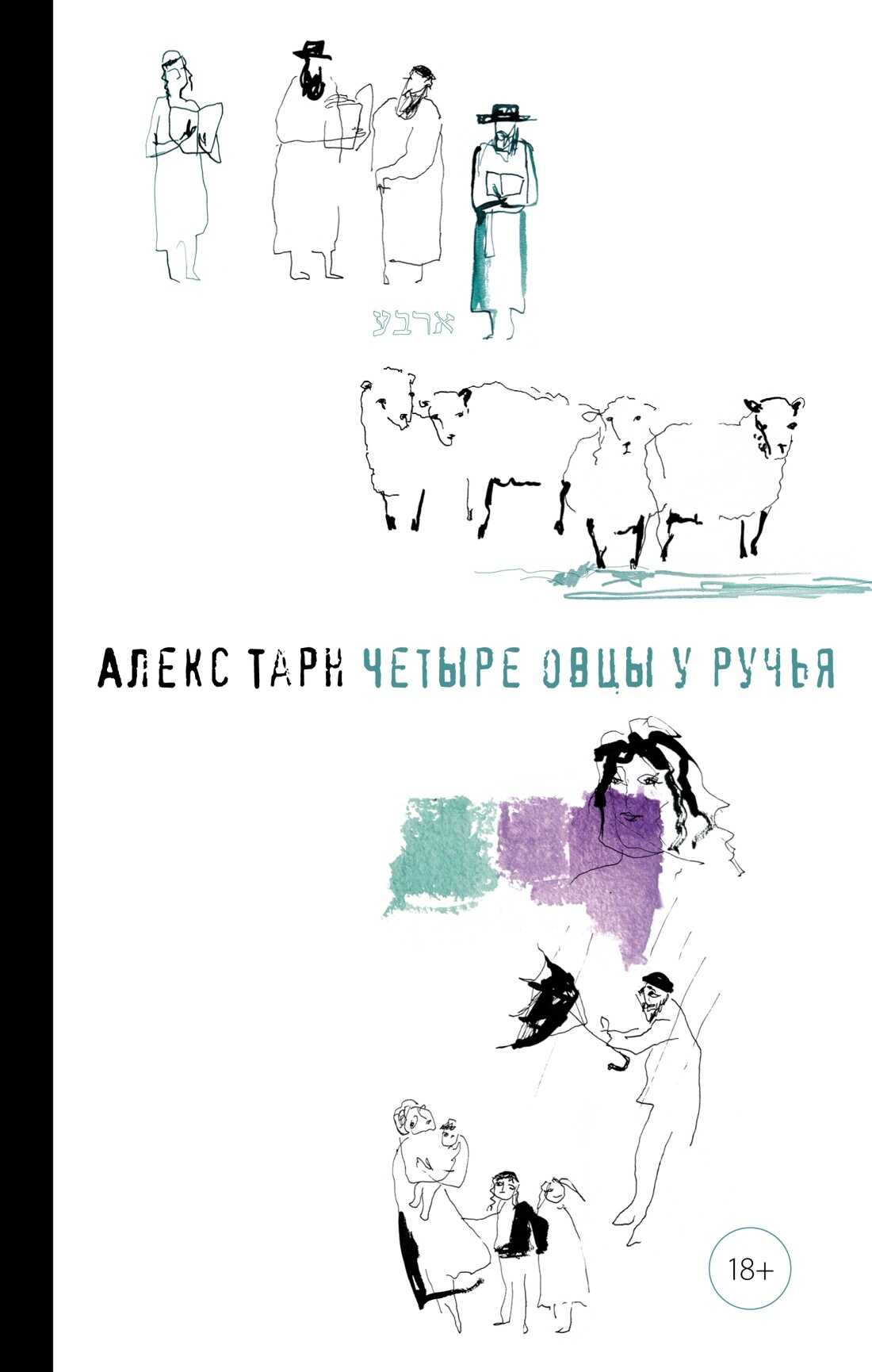Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Автобиографическая трилогия «Из Ларк-Райза в Кэндл-форд» – ностальгическая ода, воспевающая жизнь провинциальной Англии Викторианской эпохи. Девочка Лора, растущая в деревушке Ларк-Райз на севере Оксфордшира, описывает забавные, иногда грустные сценки из деревенской жизни, рассказывает о нехитрых крестьянских радостях. Вдумчивые, обстоятельные картины патриархального быта придутся по вкусу любителям буколической прозы. В этот том вошла первая часть трилогии, где описывается простой деревенский быт, наивные и трогательные обычаи и нравы эпохи.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Флора Томпсон»: