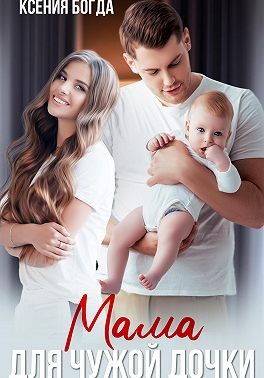Шрифт:
Закладка:
«Усадьба леди Анны» — это исторический роман от талантливой российской писательницы Полины Ром, автора таких книг, как «Поцелуй врага», «Сердце врага» и «Любовь врага». В этой книге она рассказывает о неожиданной и опасной любви между двумя людьми, которые живут в разные эпохи и принадлежат разным мирам. Анна — это молодая и красивая аристократка, которая живет в Англии в начале XX века. Она — наследница огромной усадьбы, которая принадлежит ее семье с давних времен. Она — леди, которая должна следовать правилам и традициям своего класса. Она — невеста, которая должна выйти замуж за человека, которого не любит. Но ее жизнь меняется, когда она находит в своей библиотеке старинную книгу, которая открывает ей дверь в другой мир. Это мир средневековой Руси, где царит война, насилие и магия. Там она встречает Ивана — храброго и сильного богатыря, который служит князю Владимиру. Он — воин, который должен защищать свою землю и свой народ от врагов. Он — герой, который должен сражаться за свою честь и свое имя. Он — любовник, который должен покорить сердце леди Анны. Но как быть, когда они живут в разных мирах и не могут быть вместе? Как сохранить свою любовь, когда она противоречит законам времени и пространства? Как спасти свой мир, когда он под угрозой разрушения?
«Усадьба леди Анны» — это захватывающий и трогательный роман, полный приключений, интриги, юмора и романтики. Это книга, которая заставляет читателя переживать за героев, сопереживать их драмам и страстям, верить в их любовь и судьбу. Это книга, которая не оставит равнодушным никого, кто любит исторические романы. Вы можете читать книгу онлайн на сайте knizhkionline.com