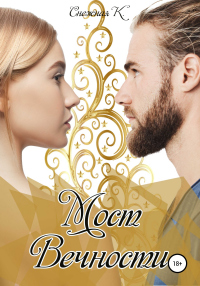Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Росс Кинг – автор бестселлеров «Леонардо да Винчи и „Тайная вечеря“», «Чарующее безумие. Клод Моне и водяные лилии». Его очередная книга – увлекательный рассказ о том, как создавалась роспись потолка Сикстинской капеллы, основанный на исторических документах и последних исследованиях историков и искусствоведов. Это история титанического труда на фоне мучительной творческой неудовлетворенности, бесчисленных житейских тягот, тревожных политических коллизий, противостояния с блестяще одаренным молодым соперником – Рафаэлем из Урбино и влиятельным архитектором Браманте, а также напряженных отношений с властительным заказчиком. Созданной вопреки всем невзгодам величественной фреске суждено было прославить имя Микеланджело в веках.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Росс Кинг»: