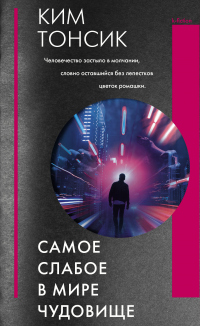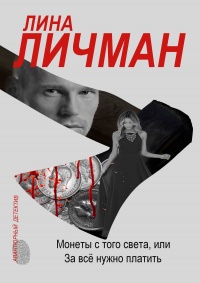Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Роман "Ледяной дом" — один из лучших русских исторических романов, изображающий мрачную эпоху царствования императрицы Анны Иоанновны, засилье временщика Бирона и немцев при русском дворе, получившее название "бировщины". Роман из истории России первой половины XVIII века. Рисунки: С. Бойко
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Иван Иванович Лажечников»: