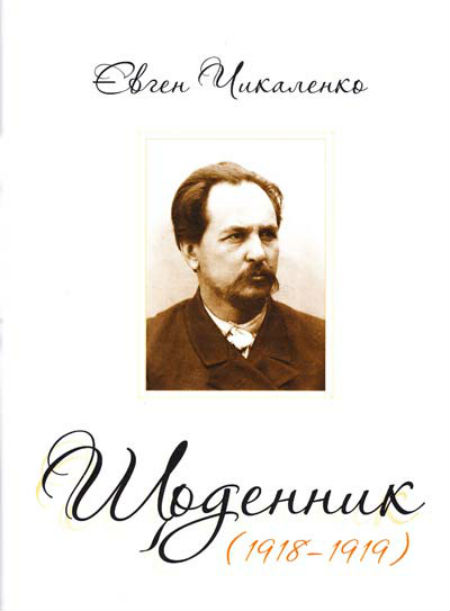Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Перевернутый Гражданской войной Крым 1920 года, нидерландский Делфт времен расцвета голландской живописи, придворные интриги вокруг последних из Габсбургов в Испании XVII века и Москва несколько лет назад. И три кольца с вензелем ICE испанской принцессы Изабеллы Клары Евгении, запечатленные на ее портрете работы фламандского художника Адриана Брауэра и с тех пор гуляющие по свету. Где и когда они встретятся в следующий раз?.. Конец эпох, конец правлений, конец прошлой жизни. Конец как начало. Вторая книга трилогии Елены Афанасьевой «Театр тающих теней».
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Елена Ивановна Афанасьева»: