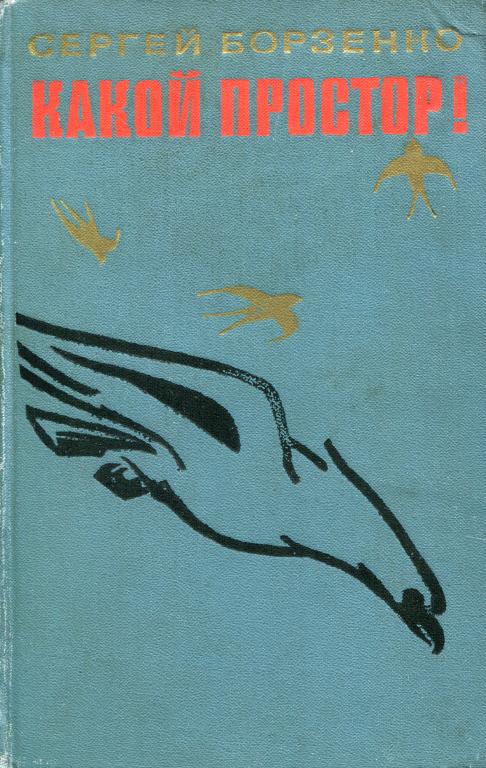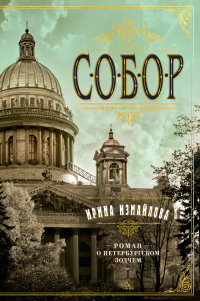Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Многоплановое произведение Сергея Борзенко, Героя Советского Союза, автора многих книг, охватывает незабываемые исторические события Великой Октябрьской социалистической революции. Это политический роман о том, как рабочие и крестьяне под руководством большевиков взяли власть в свои руки и стали хозяевами новой жизни. Главные герои книги — коммунист Иванов и его сын Лука — с оружием в руках отстаивают Советскую власть от внутренних и внешних врагов, а затем восстанавливают разрушенную промышленность. Читатель найдет в романе главы, посвященные штурму Зимнего дворца, взятию Перекопа, разгрому националистических банд. Роман волнует как драматическими событиями того времени, так и судьбами героев.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Сергей Александрович Борзенко»: