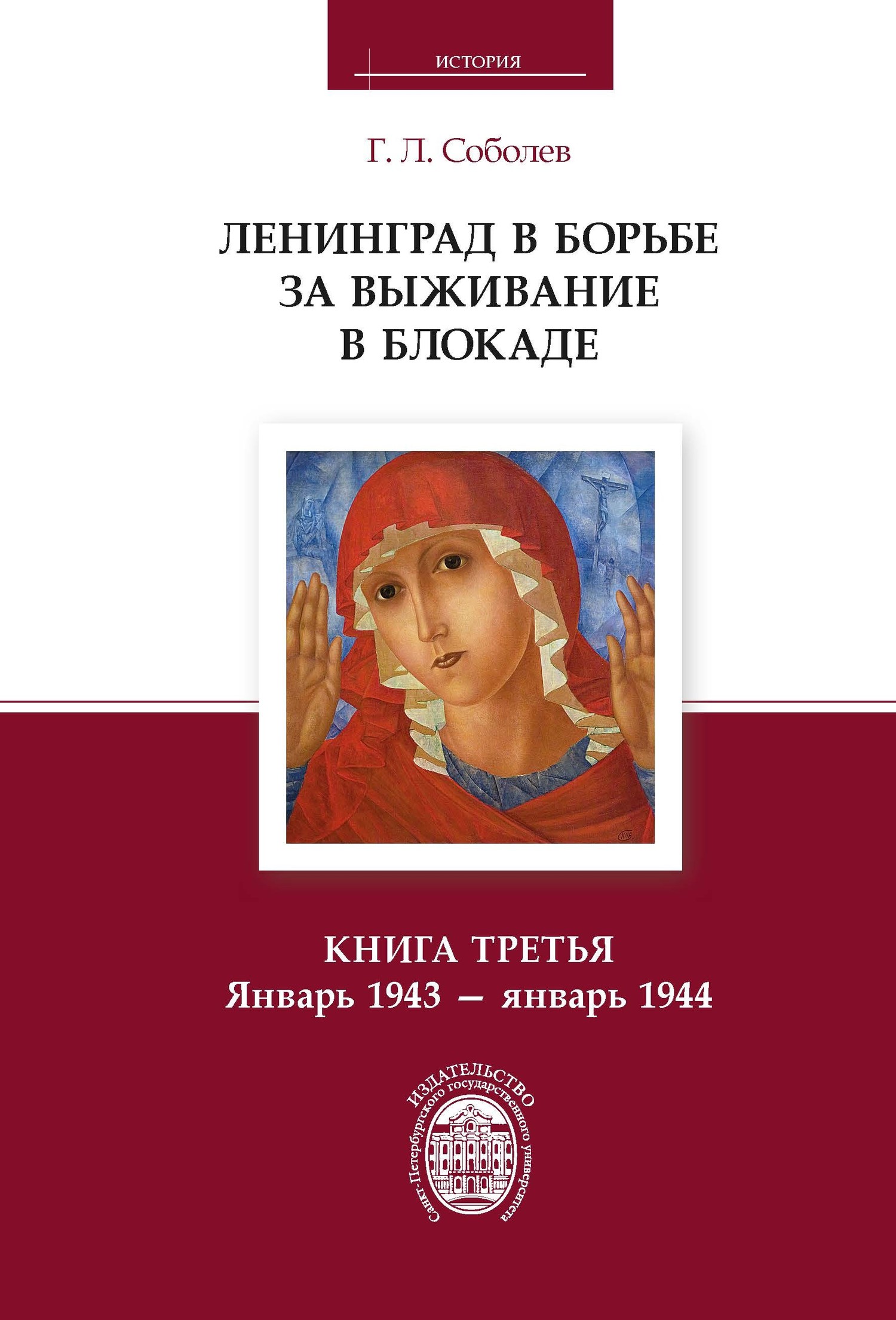Шрифт:
Закладка:
Сейчас ночь. Пушку поставили на позицию. Вся моя батарея заняла боевой порядок.
7 октября.
Стоим в районе Московской Славянки. Впереди — город Пушкин. Он отлично виден, однако немцы видят нас еще лучше: мы как на открытой лестнице, они — на возвышенности. С наблюдательного пункта Середа показал мне Екатерининский дворец, купола Кирасирской и Тярлевской церквей.
Наши огневые позиции тянутся вдоль траншеи, выходящей к реке. Лощина, по дну которой протекает Славянка, сплошь изрыта тяжелыми снарядами. Каждый день гитлеровцы засыпают лощину металлом.
В землянках холодно. В прежних хоть натопишь, отогреешься, а тут добыть полено или дощечку — проблема. Все, чем можно было топить, сожгли.
Начались ЧП.
Мой боец Козлов умудрился пролить на лицо горючую смесь. К счастью, глаза уцелели. Вспомнил Березнякову… На заводе ЧП было подобно взрыву бомбы, а тут разрывы бомб не называют ЧП: обычное.
В 3-й батарее переносили в плащ-палатке боеприпасы. В это время — обстрел, прямое попадание: выбыло из строя шесть человек.
Всякие происшествия — чрезвычайные и нечрезвычайные — в конечном счете показатели того, как организовано руководство подразделением. Конечно, это так. Но Смагин, вызвав всех комбатров дивизиона, отчитал их в грубой, недопустимо грубой форме. Ему угодно, чтобы наша сложная, трудная жизнь вообще протекала без сучка и задоринки. Но ведь и сама фронтовая жизнь ненормальна с точки зрения нормы бытия.
Не успел, однако, Смагин закончить свой монолог, как в штаб вбежал смертельно бледный боец и, обращаясь к нему, отрапортовал:
— Товарищ командир дивизиона! Сержант Васюков пошел тянуть связь с соседним батальоном и подорвался на мине: ступню оторвало. Какой-то лейтенант из того батальона стал перетягивать ему ногу ремнем, а тут бахнул снаряд. И обоих осколками…
Лил дождь. Васюкова доставили мертвым. Лейтенанта ранило в живот. Его несли санинструктор и три бойца. Несли через канавы, через траншеи, через минные поля. Я увидел широкоплечего великана. Заглянул в его лицо: Бориска?! Вот как мы встретились с тобой! Хотелось кричать, реветь. Но слез не было. Ужас скользкой змеей сдавил мне шею.
Раненый был ношей нелегкой. Но мы несли его бережно на намокшей от дождя и крови солдатской шинели, безмолвного богатыря, олицетворявшего саму жизнь, неистребимую, добрую, гордую. Несли, как укор людским зверствам.
О чем в эти минуты думал Бориска, стиснув зубы и превозмогая, должно быть, страшную боль? О чем он мог думать, лежа на верной солдатской шинели? Не о том ли, как в белорусском местечке на чердаке бейшмедреша когда-то нашел возле пулемета лежащего в крови отца? Не слышался ли ему тихий голос матери: «Теперь ты у меня, сынка, за старшего». А может, ему привиделась Олька?
Его несли, не выпуская из рук.
Если б я был художником, я бы нарисовал картину, на которой изобразил раненого Бориску на руках у солдат, и подписал бы ее одним словом: «Товарищ».
Он скончался на подступах к городу Пушкину. Но настанет день, клянусь тебе, друг, мы будем там. Мы войдем в город, названный именем человека, который сказал, обращаясь к нам: «Здравствуй, племя младое, незнакомое!» Вероятно, таким и представлял он наше племя, каково оно есть на самом деле: непокорным, жизнелюбивым, несгибаемым перед лицом смерти.
К вечеру дождь усилился. Затапливает траншеи. Обволакивает землянки. В двух шагах ничего не видно.
Мне кажется, не дождь идет — небо плачет скорбными слезами. И земля, впитывая эти слезы, тоже плачет, пресыщенная ими.
Небо плачет. Земля плачет. Я разучился плакать.
20 октября.
Абдуллай принес мне сразу четыре письма.
Прочел Наденькино. Сетует: много работы, в химиках острая нужда… Избави меня бог от искушения!
Два письма от Феди. Полевая почта номер… В каких же краях ты воюешь?
Олька не пишет. В другое время задал бы я ей нахлобучку!
Шеляденко, накрепко привязанный броней к заводу, рапортует так подробно о цеховых «новынах», что, сидя в землянке, видишь его, долговязого, смешно приникшего к телефонной трубке: «Вас слухае уважаемый Степан Петрович Шеляденко…» А «уважаемого», «голубу» поминутно дергают за рукав: куличи запороли… щелочи не подвезли… И ни у кого нет зла к этому шумному работяге.
24 октября.
Вчера разведчики-пехотинцы ходили за «языком». Отчаянные ребята так стремительно совершили операцию, что наша поддерживавшая артиллерия не успела открыть огонь.
Привели двух. Одного юный разведчик в такт своей песенке подталкивал в спину автоматом:
Мальбрук в поход собрался,
Наелся кислых щей…
Пленных окружили артиллеристы. Честно говоря, меня охватило мучительное желание расправиться с фрицами.
Никогда еще гуманизм не проявлялся в таком действии, как убийство. Уничтожить фашиста — значит свершить доброе дело. Но нельзя давать волю чувствам. Пленных мы не убиваем.
27 октября.
Трагическое и героическое переслаивается парадоксами. У «дивизионного многожена» отняли «жену» — Нельку. Перевели ее в другой дивизион. Смагин, «обидемшись», написал глупый рапорт. Добился заслуженного: его направили в отдел кадров с соответствующей характеристикой.
В дивизион пришел новый командир — капитан Рудков. Абдуллай сказал про него: «Та-а-кой красавица!.. Шибка суриозный уртак — раз говорит, два не говорит».
Я его еще не видел.
4 ноября.
Смагина передали в резерв, а Нельку, словно в отместку ему, вернули обратно в наш дивизион. Поначалу она чуралась меня.
— Ты виноват во всем! — резко бросила мне, столкнувшись лицом к лицу. — «Война… не время…» Ты против любви? Не люби. А на других не указывай.
— Почему против? Я верю в любовь, но…
— «Верю», «верю»… — забиячливо передразнила она, сморщив свой коротенький, широкий нос. — А я, если хочешь знать, совсем в нее и не верю. Насмотрелась во как, — резанула ладонью поперек шеи, — на вашу, извините, любовь! — Прикрыла глаза. — А чтоб как в романах, как в кино любили… никогда не видела.
— Но ты никогда не видела и радия, нельзя же из этого делать вывод, что радия не существует?
В тот же день она сама рассказала о себе. Жизнь у нее была — хуже не надо. Если я, рожденный в «незаконном» браке, почитал мать, ценил ее чистоту и мудрость, то Нелька пуще всего ненавидела свою мать. «А за что ее было любить, вечно пьяную? За то, что, не стесняясь меня, девчонки, мужиков к себе водила? За то, что родила?.. Рожать и собака умеет».
16 ноября.
Утром на «КНП» мне позволил капитан Рудков:
— Ищу вас семнадцать минут. В тринадцать ноль ноль вам и арттехнику Середе явиться с вещами в штаб полка. Поедете на курсы.
Не хочется расставаться, но… люди — как поезда.
21 ноября.
Выпал первый «серьезный» снег. Мы уже не в