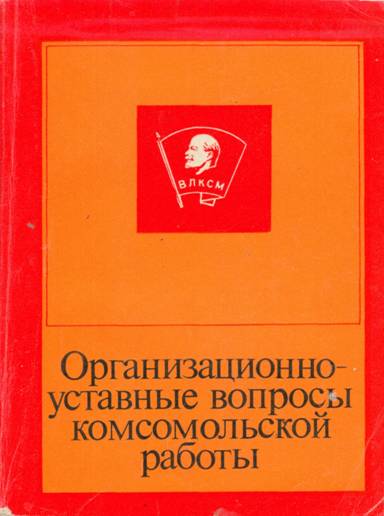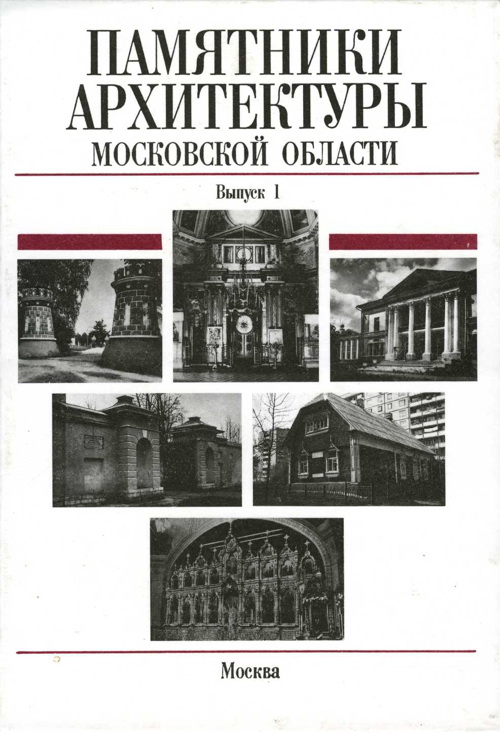Шрифт:
Закладка:
В сборник Александра Исбаха «На литературных баррикадах» входят литературные портреты писателей-современников, всегда находившихся на линии огня, на литературных баррикадах, всегда державших руку на пульсе жизни народа, сражавшихся своим оружием — искусством — против реакции, против буржуазной идеологии во всех ее проявлениях, за высокие идеалы социализма и коммунизма. Александр Исбах рассказывает о писателях, с которыми ему лично приходилось встречаться, дружить, совместно работать долгие годы, воевать против фашизма на фронтах, участвовать во многих боях за социалистический реализм. Жанр книги своеобразен. Это и очерки, и лирические воспоминания, и литературоведческое исследование. Вся книга, органически цельная, пронизана пафосом борьбы за социалистический реализм в искусстве.