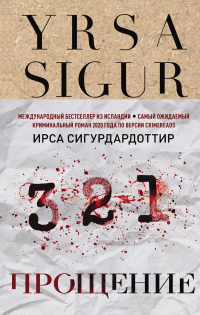Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Стратегические планы, удачи и просчеты командования, коварство врага, подвиги солдат и командиров – война, как она есть на самом деле. Подлинность событий нашей недавней истории. 1854 год. В Крыму англо-французский десант готовится захватить русский порт Севастополь и оккупировать полуостров. Команда пластунов хорунжего кубанского казачьего войска Григория Били получает задание проникнуть на английский фрегат, выкрасть секретные документы и вывести судно из строя. Смельчаки выполняют опасное задание, прихватив заодно и ценную личную вещь начальника английской разведки. С началом боевых действий разъяренный англичанин организует настоящую охоту на хорунжего Билю. Чтобы противостоять захватчикам, отважные разведчики каждый раз по-новому применяют свое необычное боевое мастерство…
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Юрий Суходольский»: