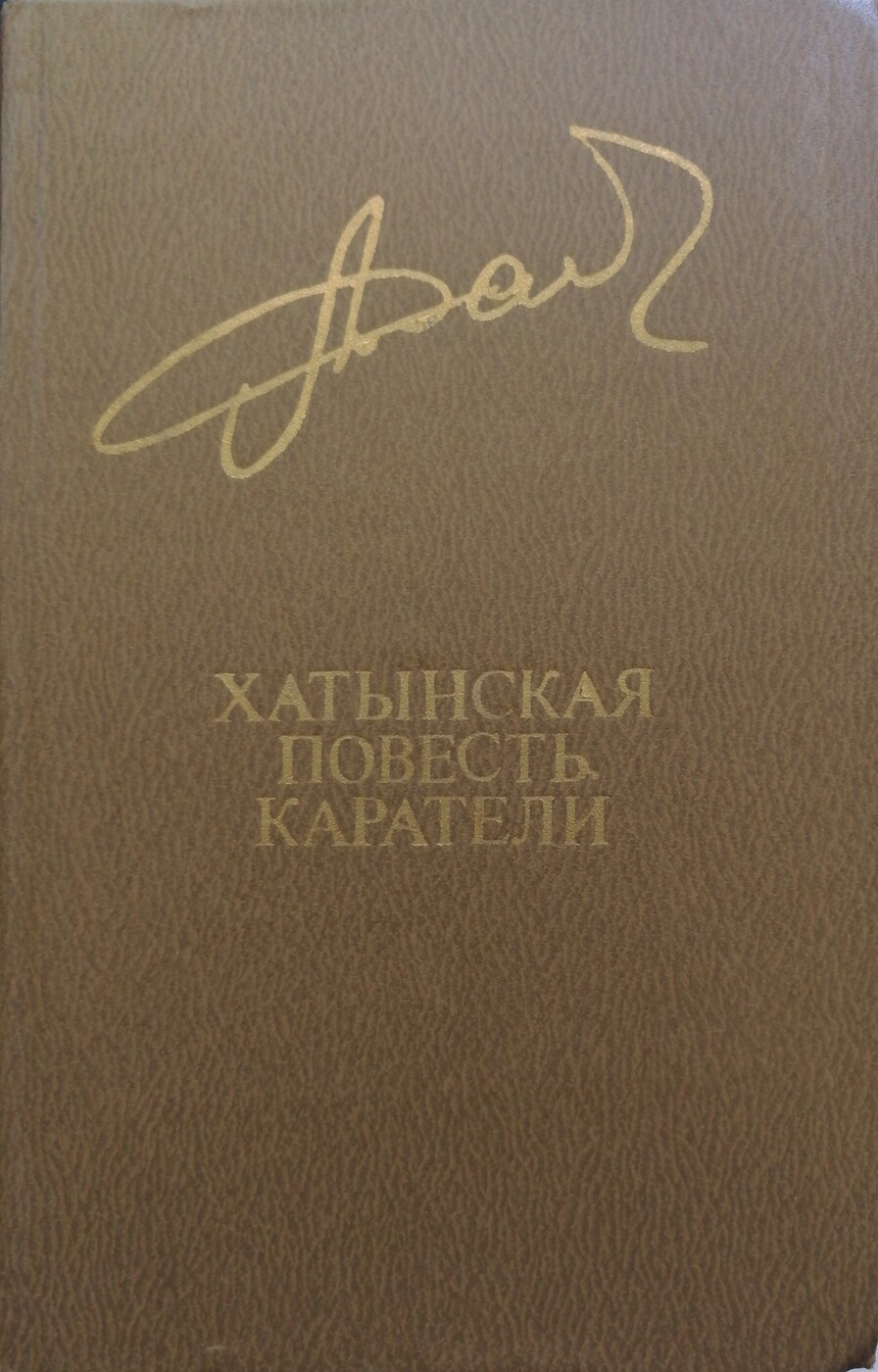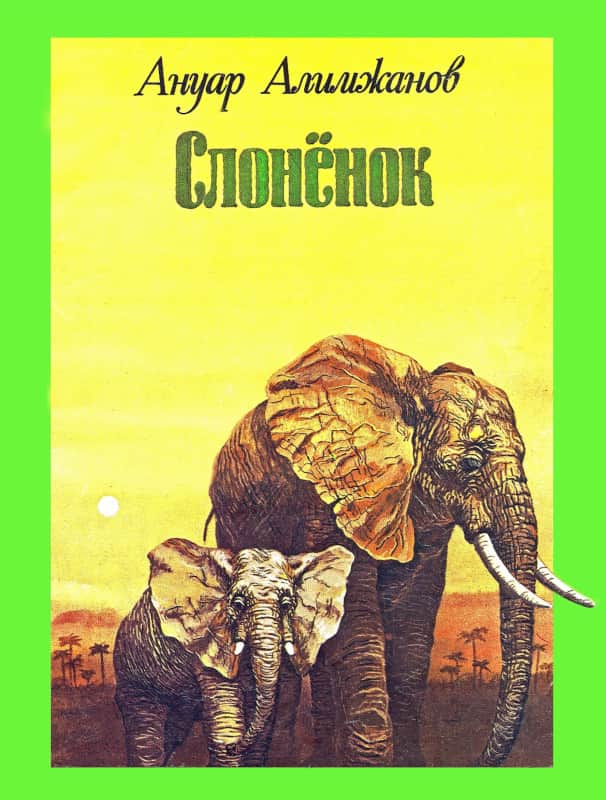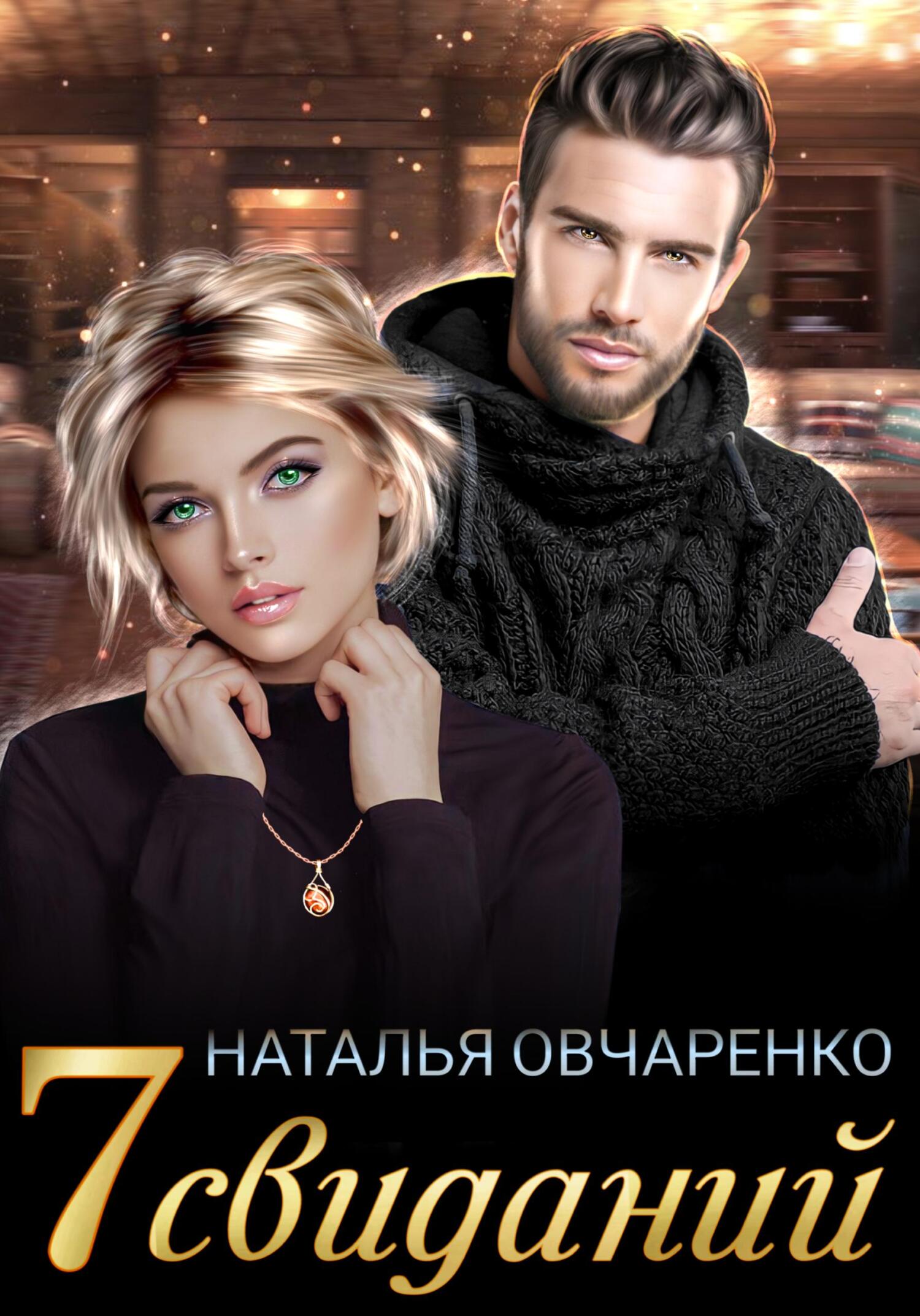Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Издательская аннотация отсутствует. _____ В издание вошли знаменитые повести А. Адамовича, посвященные Второй мировой войне: «Каратели», «Хатынская повесть».
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Алесь Адамович»: