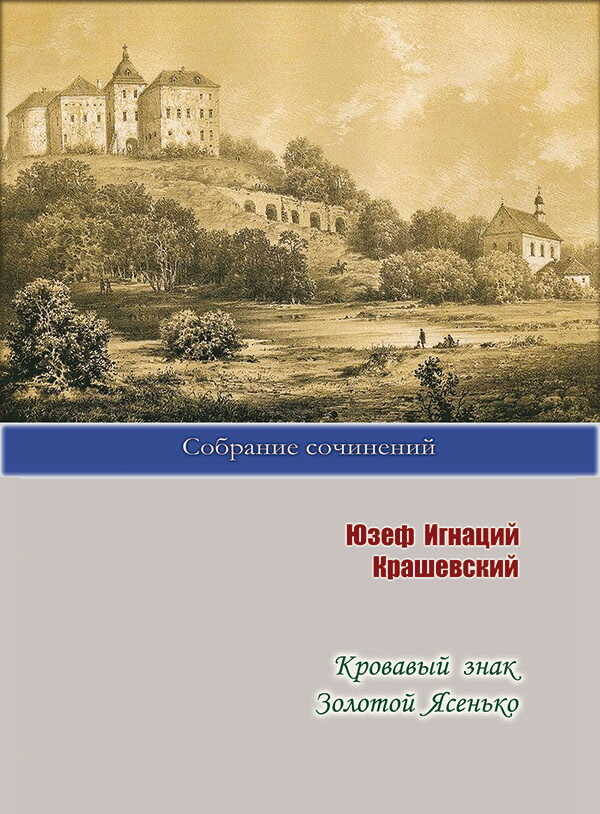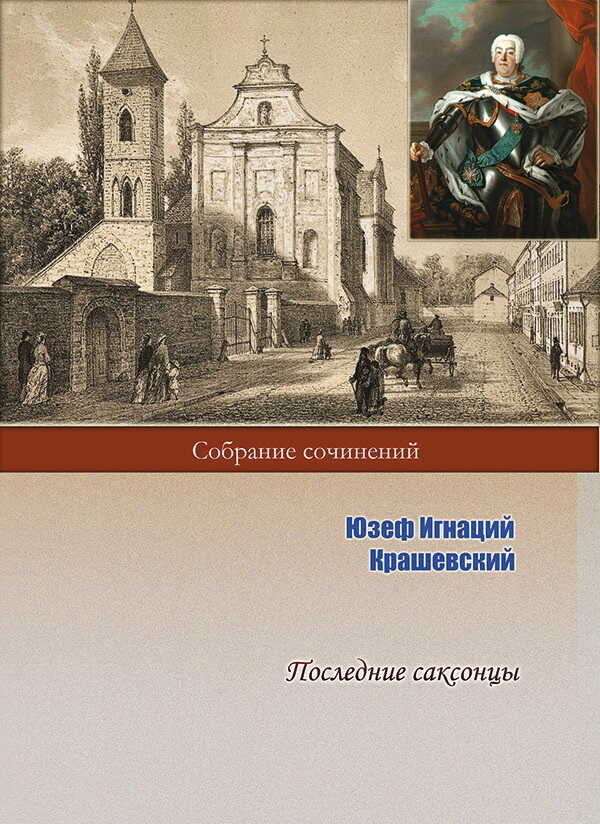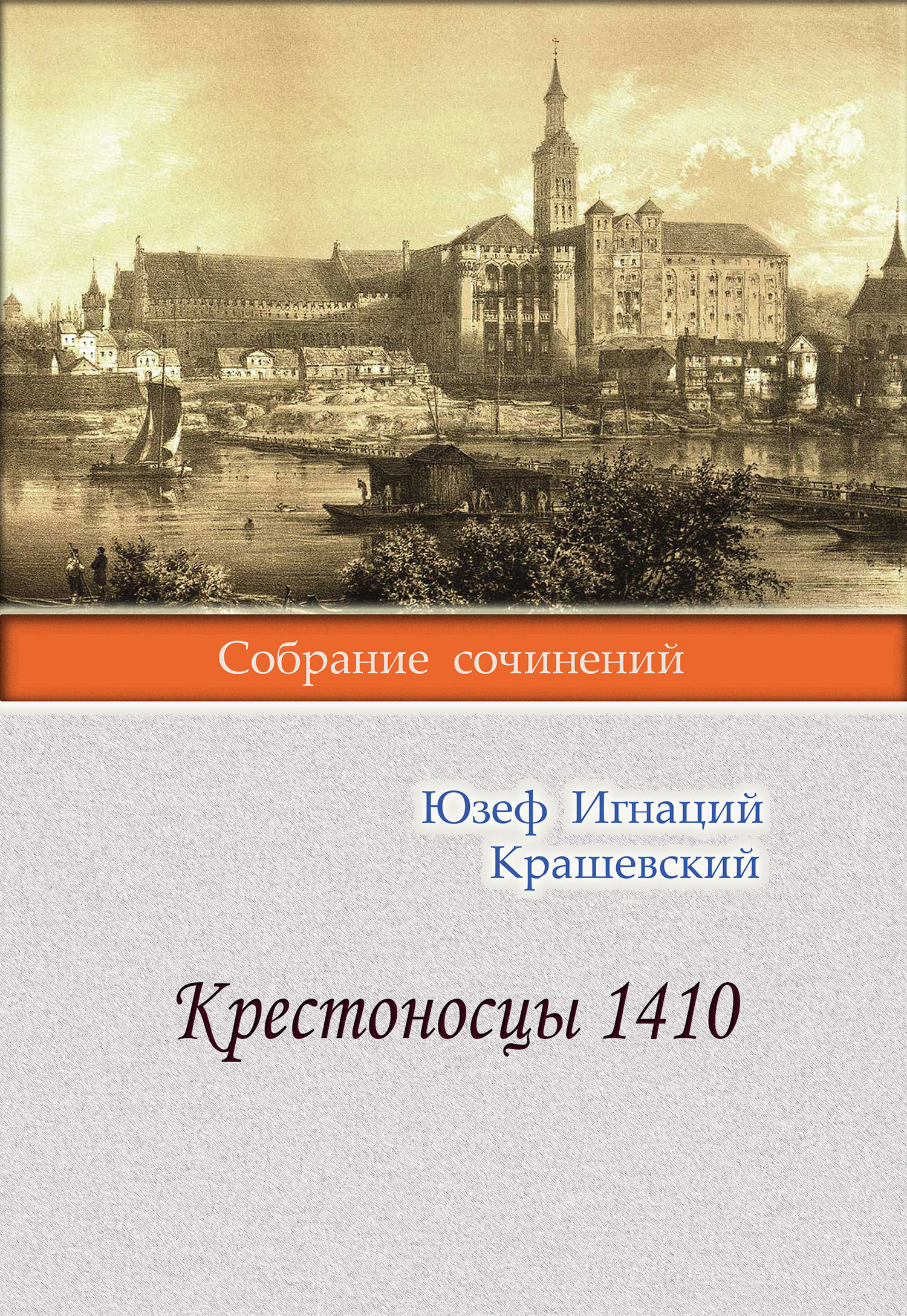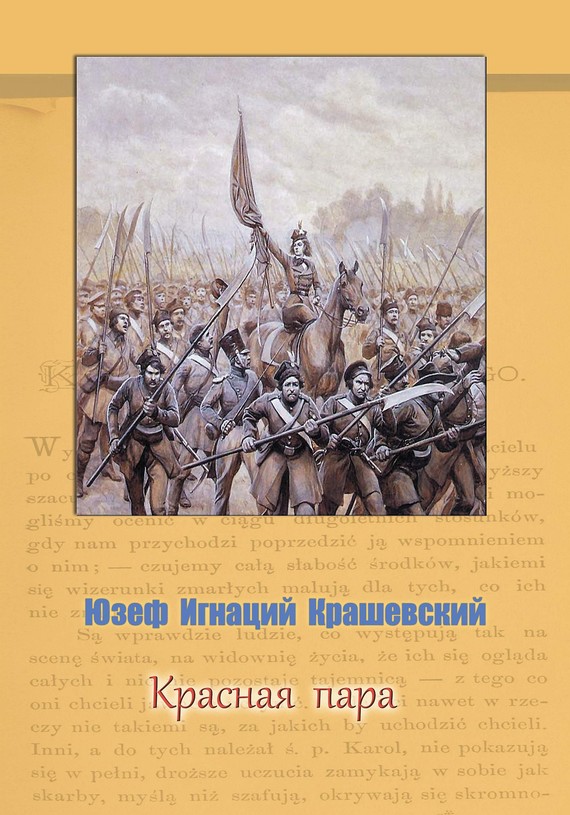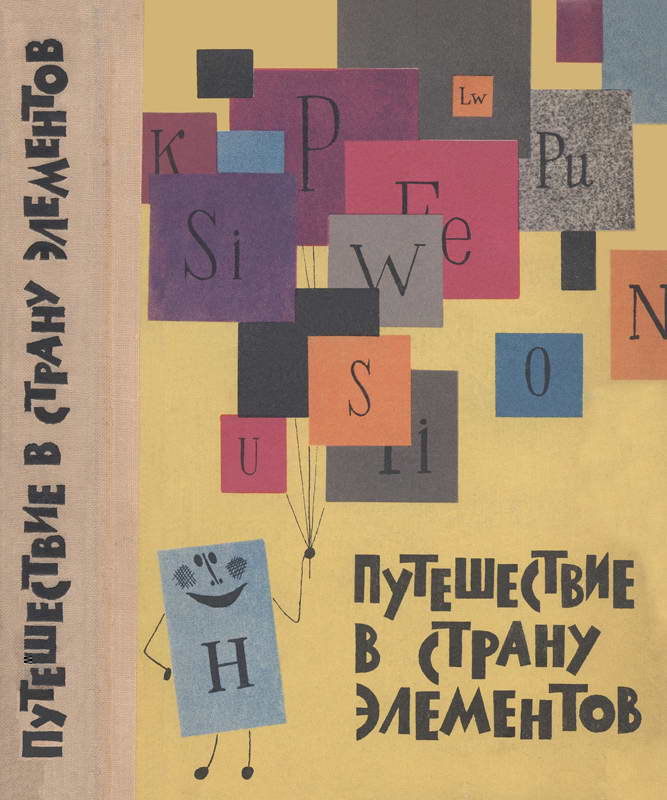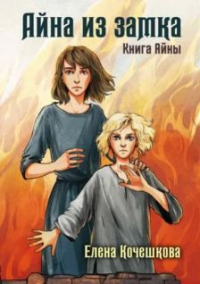Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Роман «Инфанта» является двадцать первым романом из замечательной серии «История Польши». Он относит читателя ко времени недолгого правления в Польше Генриха Валуа (1572–1575). Главная героиня романа – Анна Ягеллонка, последняя принцесса рода Ягеллонов. Её несчастливая жизнь, борьба за власть, любовь к Генриху, надежды и мечты мастерски обрисованы в этой книге, принадлежащей поистине руке мастера.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Юзеф Игнаций Крашевский»: