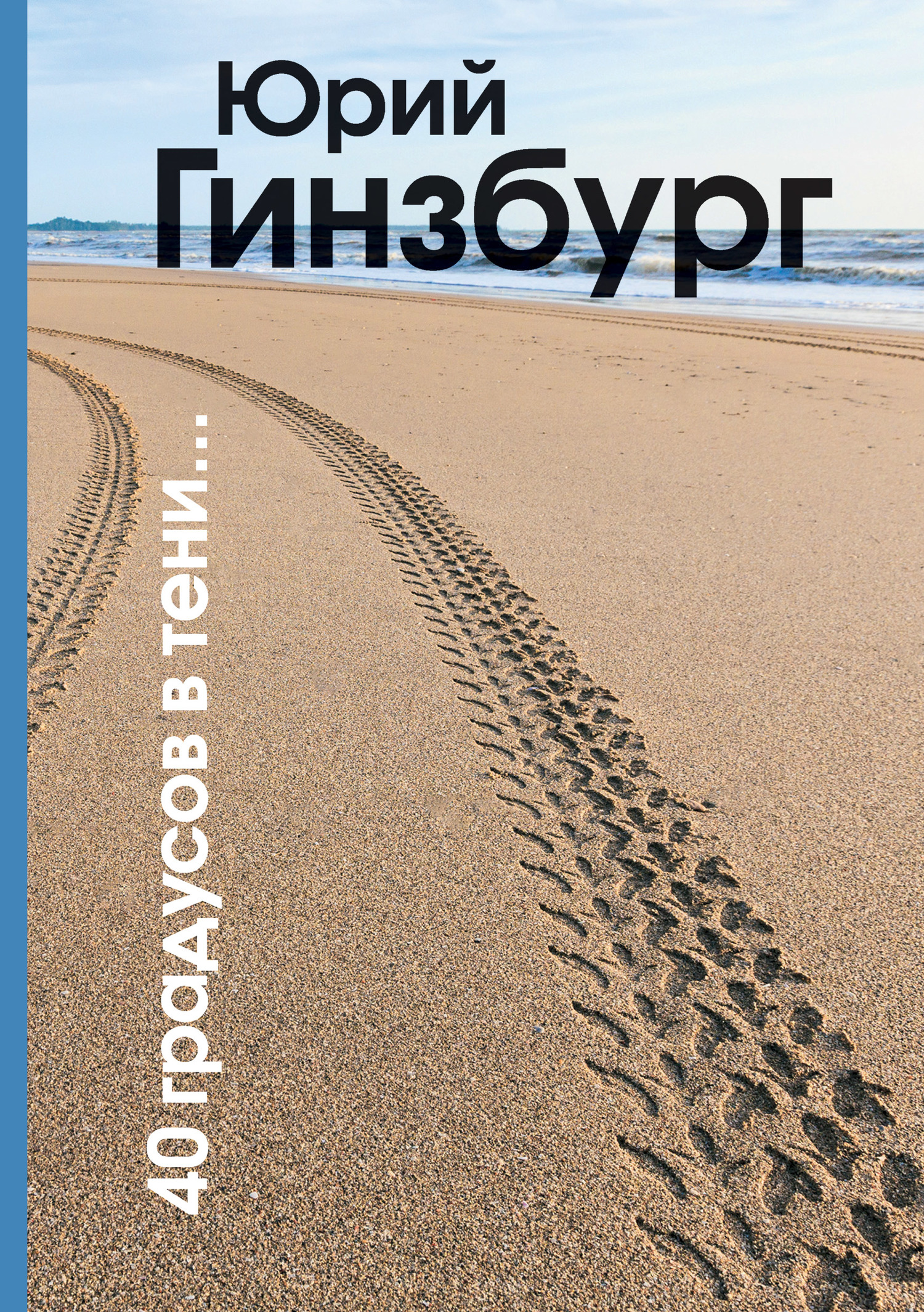Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
В новую книгу Марка Зайчика вошли произведения, в которых непостижимо отразились хитросплетения разных судеб и эпох. В новелле «Герр Геббельс уже уехал» маститый советский писатель звонит по телефону нацистскому преступнику, чтобы убедиться в том, что тот не умер, а спокойно доживает свой век под прикрытием спецслужб. В повести «Проект «Палестина» в большей степени описываются «странные сближения», семейные и дружественные, выходцев из СССР, а в «Пилигриме» явственно видится след «конторы», представитель которой преследует главного героя спустя десятилетия после эмиграции.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Марк Меерович Зайчик»: