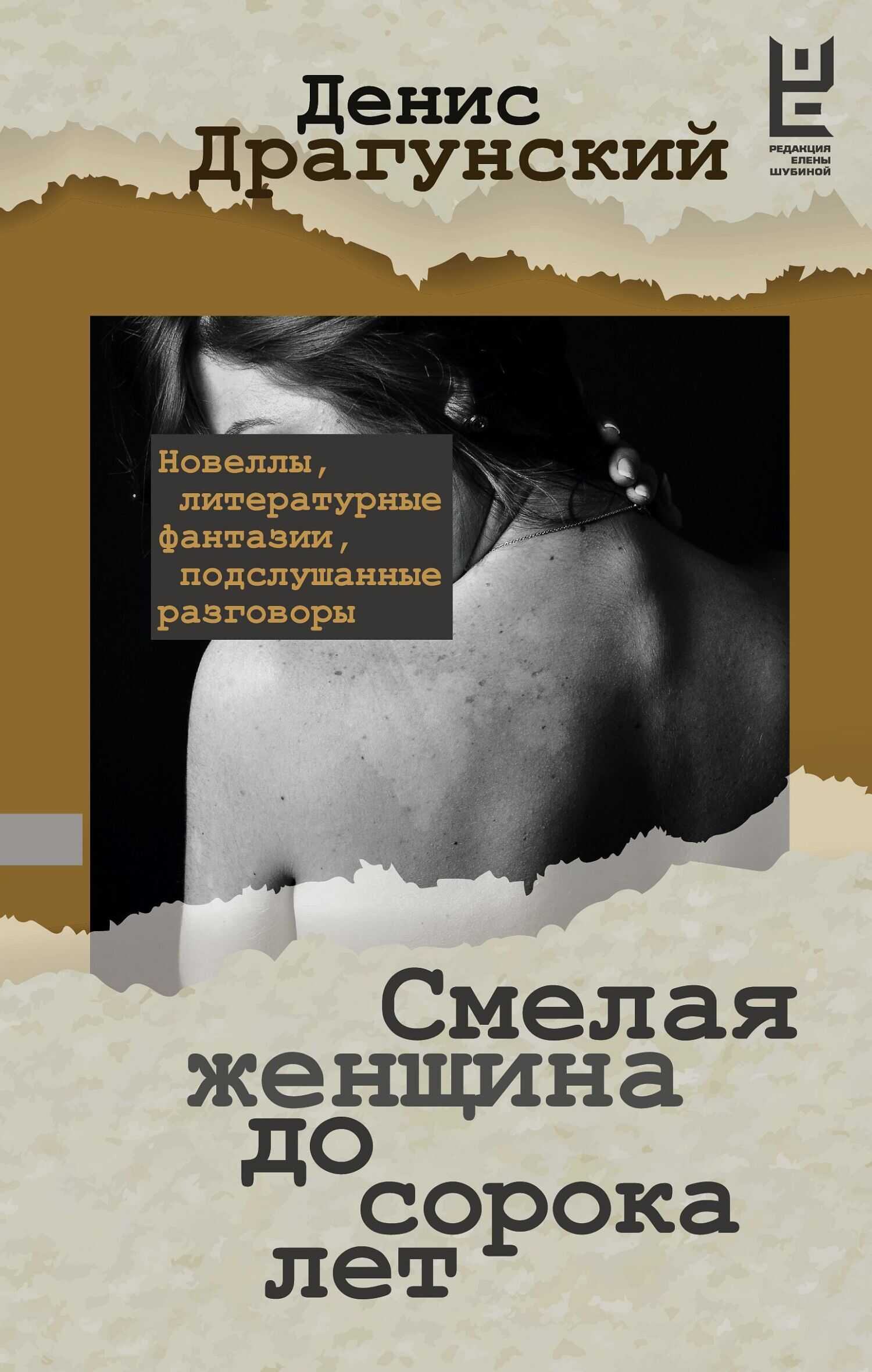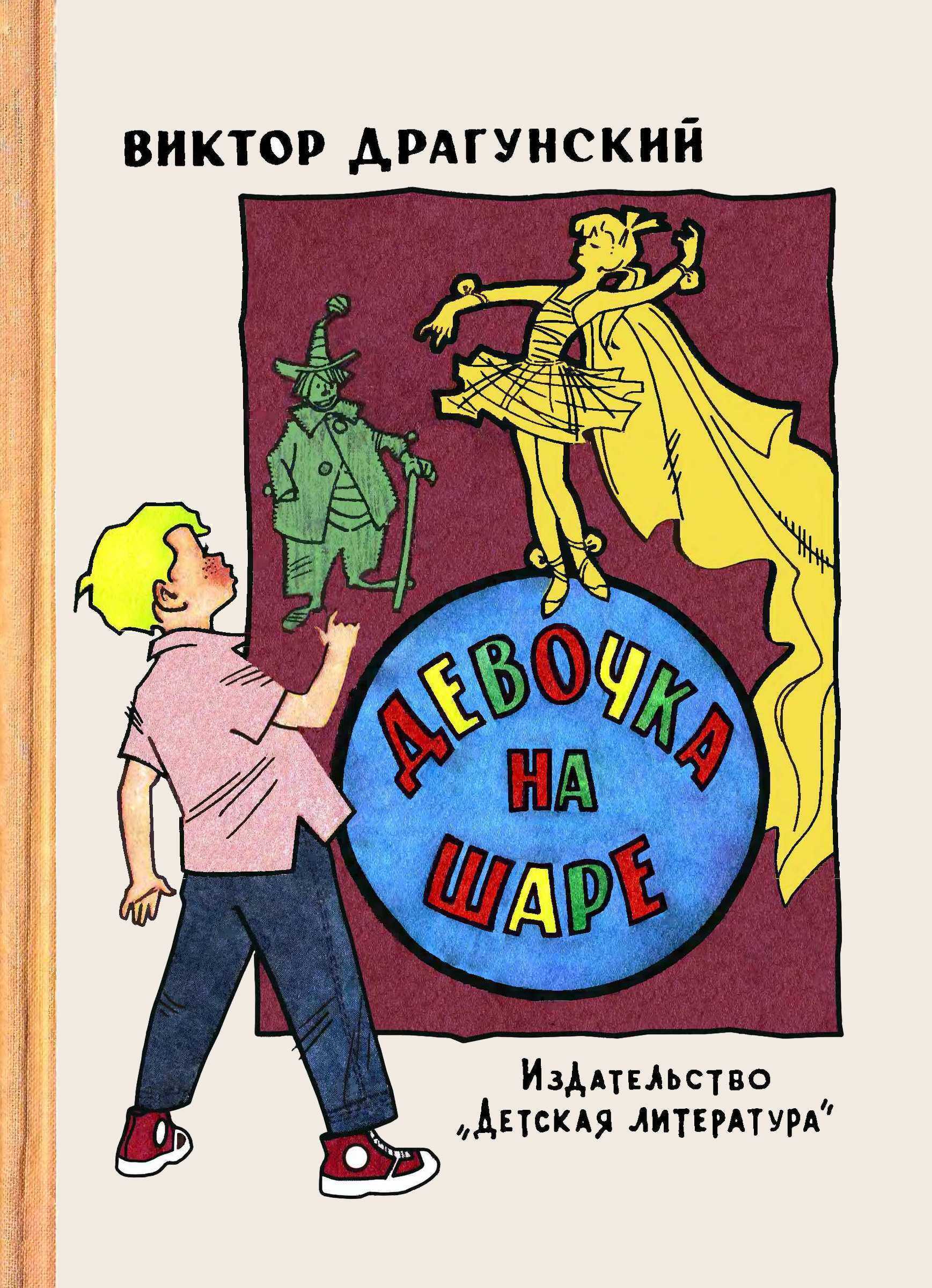Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
В книгу “Смелая женщина до сорока лет” вошли остроумные новеллы и литературные фантазии, ненаписанный рассказ О.Генри и вымышленные воспоминания полуграмотного дьячка из Ясной Поляны, секреты мастерства сценариста – и пронзительный мемуар о Глебе Павловском…Проза Дениса Драгунского поражает разнообразием жанров и идей, неизменным остается одно – фирменный стиль автора, ирония и удовольствие от прочтения.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Денис Викторович Драгунский»: