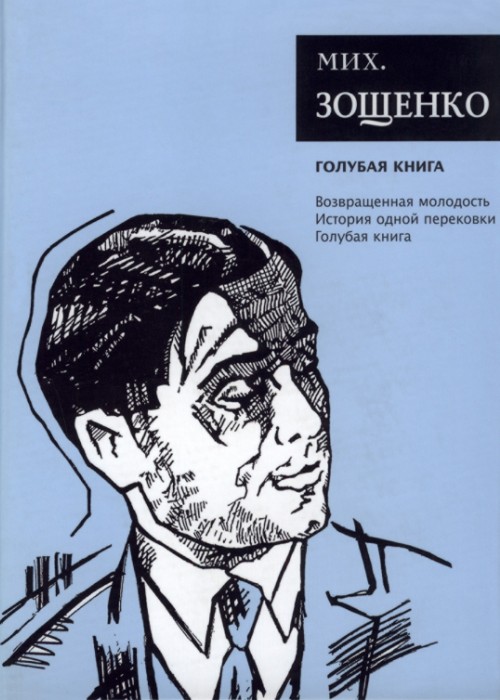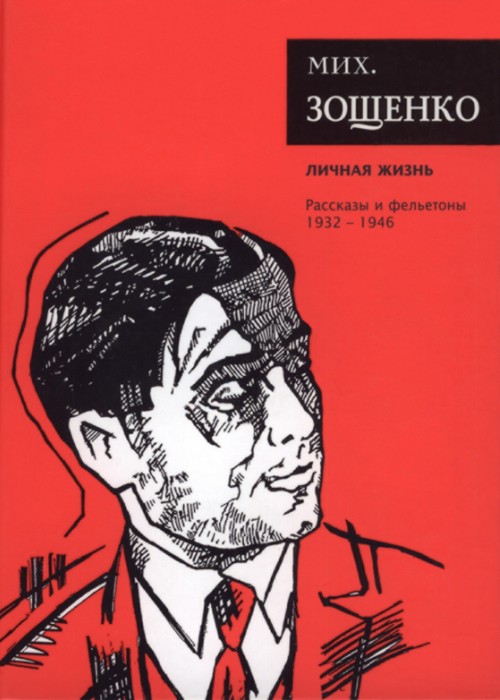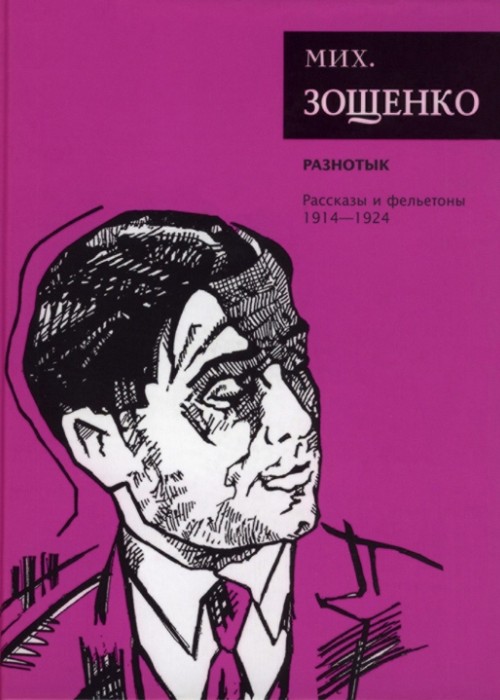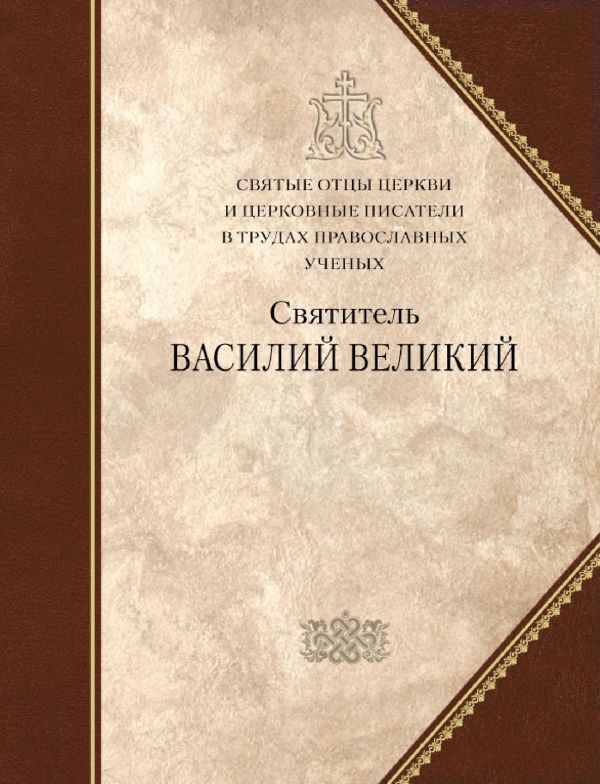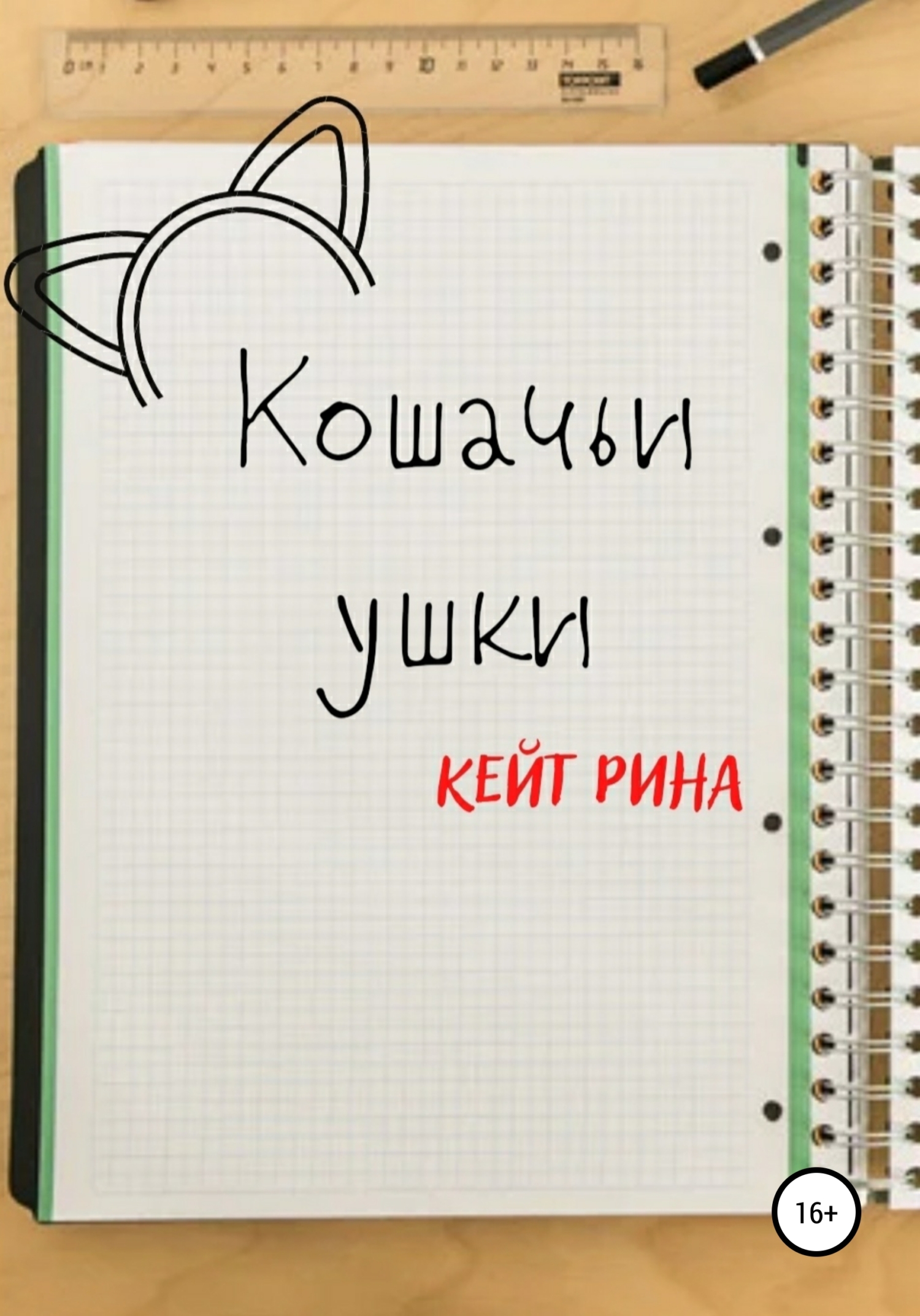Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Во второй том собрания сочинений Михаила Зощенко входят его замечательные «Нервные люди. Рассказы и фельетоны (1925–1930)». Это сборник остросоциальных и остроумных произведений, в которых автор рисует живую картину жизни советских граждан в период НЭПа. Зощенко показывает, как люди сталкиваются с разными трудностями и проблемами, связанными с бедностью, бюрократией, коррупцией, нравственным упадком и другими явлениями того времени. Он не щадит ни себя, ни своих героев, высмеивая их слабости, пороки, комплексы и нелепости. Он делает это с большим мастерством, используя свой уникальный язык, полный иронии, сарказма, гиперболы и пародии. Зощенко не только развлекает читателя, но и заставляет его задуматься о смысле жизни, о ценностях и идеалах, о человеческой природе и обществе. Его «Нервные люди» – это произведения высокого художественного уровня, которые заслуживают внимания каждого ценителя русской литературы. Вы можете читать книгу онлайн на сайте knizhkionline.com, где вы найдете множество других интересных и полезных книг разных жанров и авторов. Наслаждайтесь чтением! 😊
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Михаил Михайлович Зощенко»: