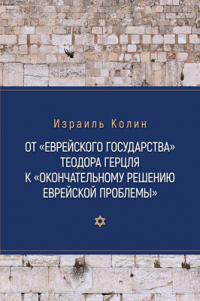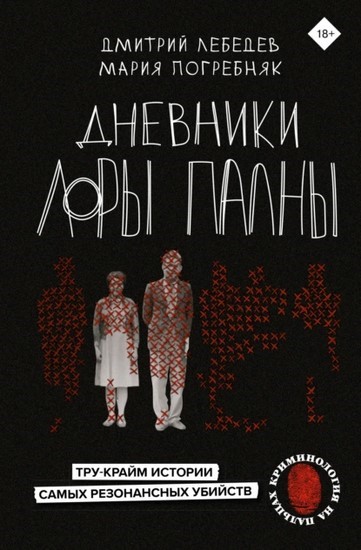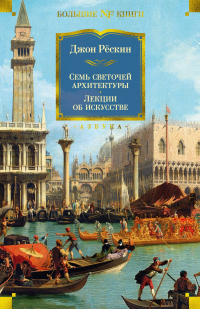Шрифт:
Закладка:
Выдающийся немецкий экономический социолог Вольфганг Штрик анализирует истоки последних финансового, налогового и экономического кризисов, рассматривая их как часть длительной неолиберальной трансформации послевоенного капитализма, начавшейся в 1970-х годах. Обращаясь к выдвинутым в то время теориям кризиса, он анализирует последующие противоречия и конфликты между государствами, правительствами, избирателями и капиталистическими интересами – процесс, в ходе которого основное внимание в европейской системе государств сместилось с налогообложения через долг к бюджетной «консолидации». Исследование заканчивается рассмотрением перспектив восстановления социальной и экономической стабильности.Книга представляет интерес для экономистов, социологов, политологов и историков.