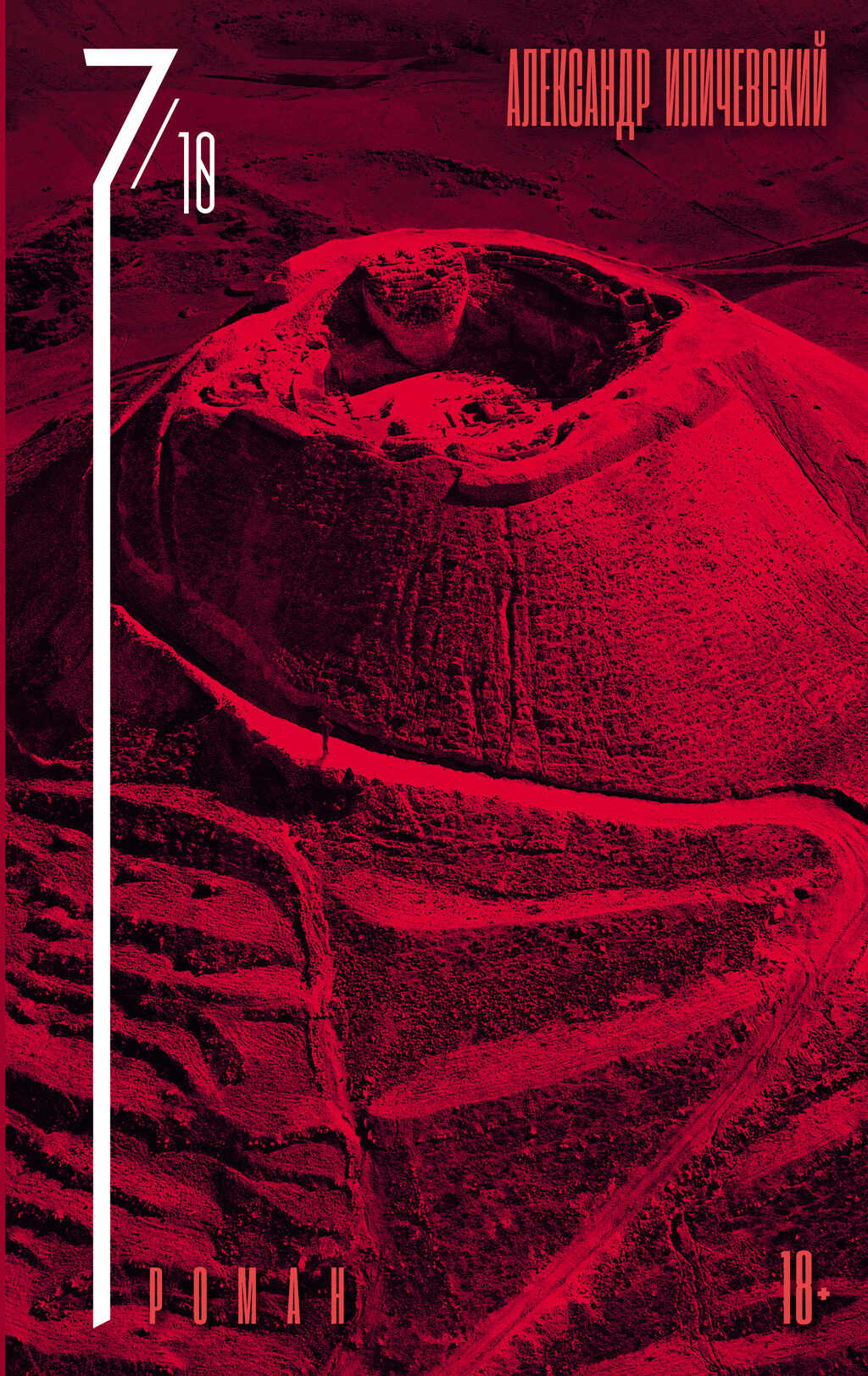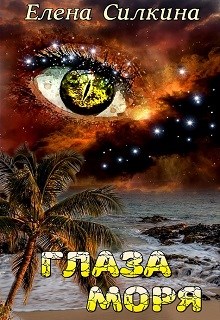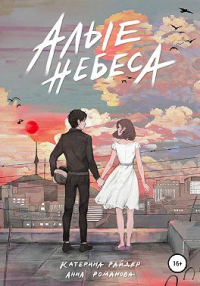Шрифт:
Закладка:
«На той фотографии я один, не считая моего дяди с той стороны объектива. Это тысяча девятьсот восьмидесятый год, войны все так же шли – на хоккейных полях, шли в космосе, шли в классных комнатах, начиняя нас временем-местом. Сколько прошло с тех пор! Наступило море, залив, мой пляж, мои скалы, на которых я вырос. Я и солнце». В прозаических и поэтических текстах, собранных в этой книге, Александру Иличевскому удается то, к чему так давно стремится физика – соединить бесконечно большое и бесконечно малое. На фотопленку, состоящую из воспоминаний о детских впечатлениях, влюбленностях и прочих счастливых минутах, наслаивается сначала боль коллективного прошлого, а затем – вечность, явленная в природе и библейских образах. И тогда в пространстве одной отдельно взятой книги ход истории вдруг обнаруживает внутреннюю логику и рифмы, а осколки разрушенного мира склеиваются в цельную мозаику. Александр Иличевский – поэт, прозаик и эссеист, лауреат премий «Русский Букер» и «Большая книга».