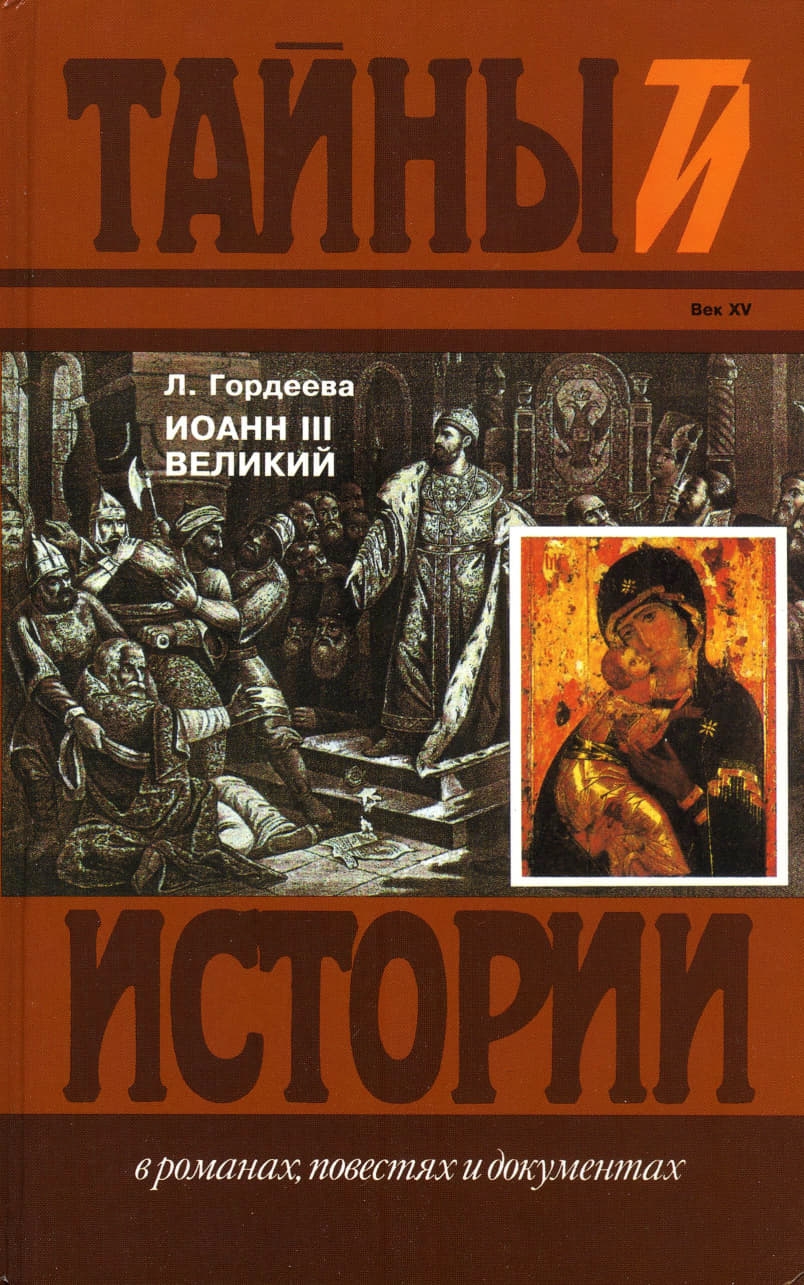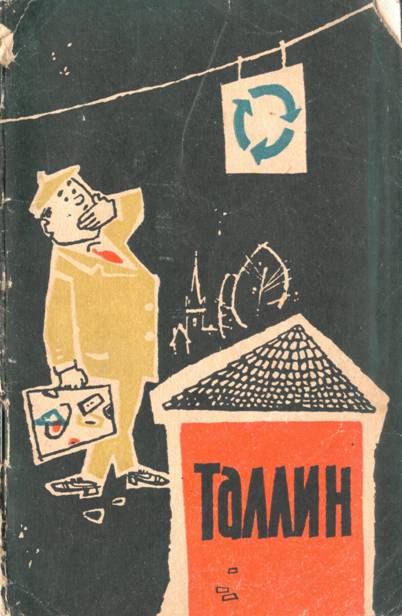Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Повесть, состоящая из отдельных законченных новелл, связанных общим сюжетом, рассказывает о последних днях северной греческо-римской колонии - городе Танаисе на берегу Азовского моря... Начало III века нашей эры. Империя увядает. Римский гарнизон отзывается из города, и его жители понимают, что теперь они лицом к лицу с великой Степью - сарматами и другими племенами. Конец близок... И на осознании близкого конца начинаются странные события, если не сказать - чудеса! Повесть некогда выходила в издательстве "Современник"
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Сергей Анатольевич Смирнов»: