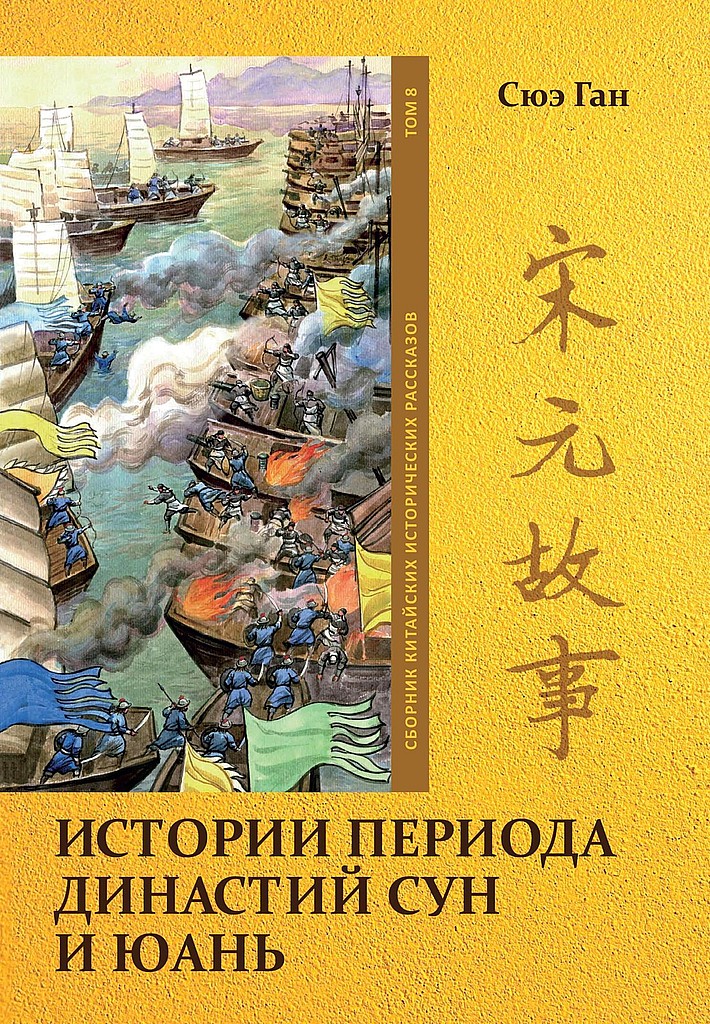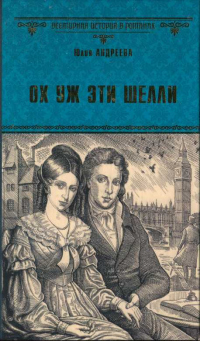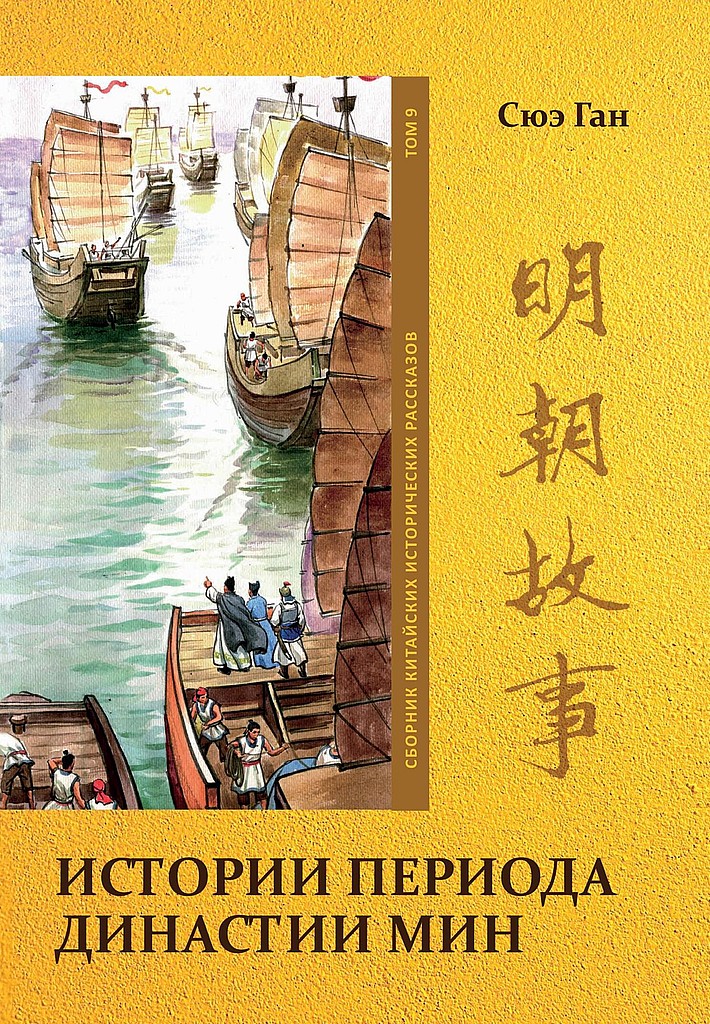Шрифт:
Закладка:
На что ты пойдешь ради завоевания мира? Чжу одержала громкую победу и теперь планирует захватить императорский трон. Но не только она обладает амбициями такого масштаба. Куртизанка госпожа Чжан хочет заполучить трон для своего мужа, и она достаточно сильна, чтобы стереть Чжу с лица земли. Чжу придется рисковать и заключить опасный союз со старым врагом — талантливым, но непредсказуемым генералом-евнухом Оюаном, который уже пожертвовал всем ради шанса отомстить Великому хану, убийце своего отца. Есть еще один претендент, который приблизился к трону опасно близко. Презираемый всеми ученый Ван Баосян появился в столице, и его смертельно опасные придворные игры грозят поставить империю на колени. Баосян жаждет стать самым ужасным Великим ханом в истории и тем самым дискредитировать ценности монгольских воинов, которые его семья чтила больше, чем самого Баосяна. Все полны решимости добиться победы. Но когда желание затмевает собой целый мир, цена может оказаться слишком большой даже для самого безжалостного сердца…
© М. Смирнова, перевод на русский язык, 2024 © Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2024 ISBN 978-5-04-194590-9