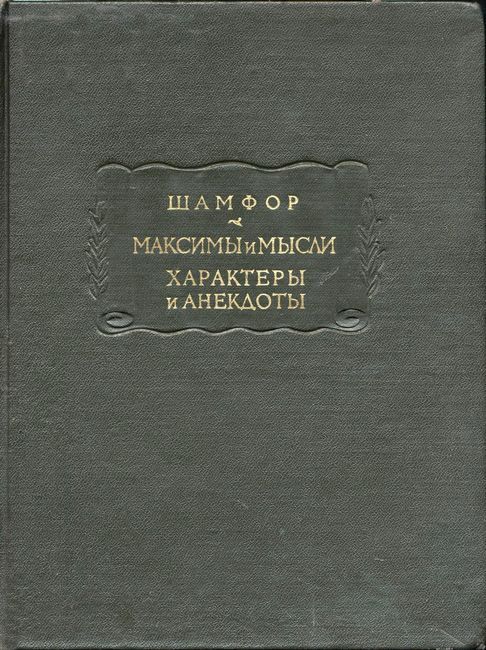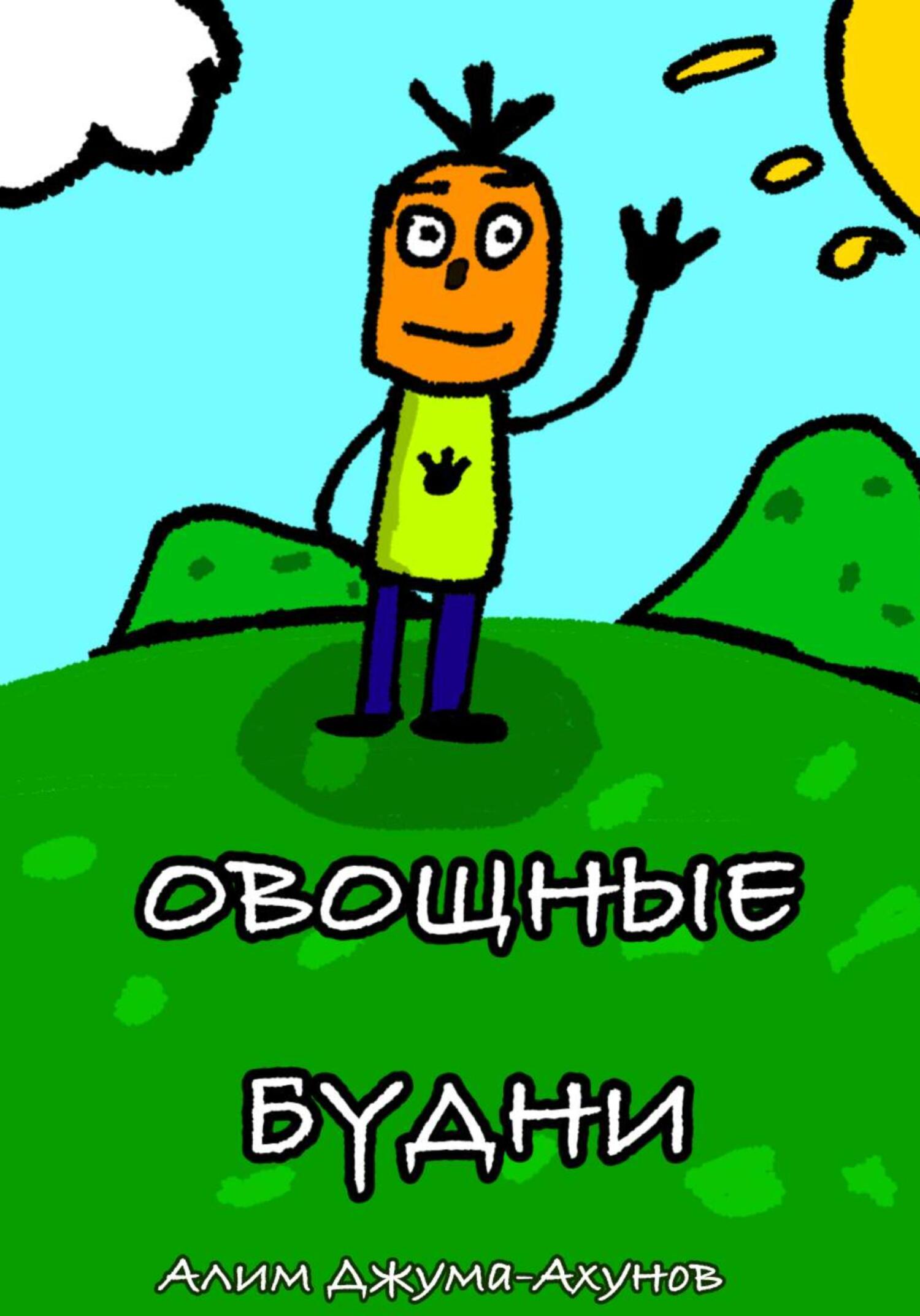Шрифт:
Закладка:
Михаил Наумович Эпштейн – российско-американский философ, культуролог, литературовед, лингвист, эссеист, лауреат премий Андрея Белого, Лондонского Института социальных изобретений, Международного конкурса эссеистики (Берлин – Веймар), Liberty (Нью-Йорк). Профессор Университета Эмори (США), автор трех с лишним десятков книг и более семисот статей и эссе, переведенных на двадцать четыре иностранных языка. «Постмодернизм в России» – это разностороннее исследование российского постмодерна, его истоков и основных этапов в ХХ – ХХI веке, а также культурно-исторических отличий от западного постмодернизма. В России постмодернизм стал не только направлением в философии, литературе и искусстве, но и способом критического и иронического осмысления повседневности, общественно-политических и технических симулякров. Эта книга писалась почти сорок лет, одновременно со становлением самого российского постмодернизма, у истоков которого стоял и сам М. Эпштейн. Автор выдвигает оригинальную концепцию конца Нового времени и соотношения постмодернизма с модернизмом, коммунизмом, экзистенциализмом. Рассматривает основные литературные и теоретические программы постмодерна в творчестве его ярких представителей (А. Синявского, И. Кабакова, Вен. Ерофеева, Д. Пригова, Т. Кибирова, А. Гениса…) и отдельных направлений (метареализм, концептуализм, соц-арт, арьергард).