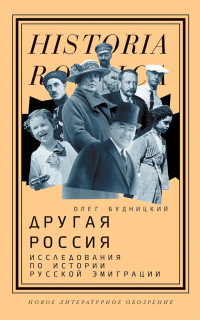Шрифт:
Закладка:
Современный российский адвокат, любящий защищать либералов, леваков и анархистов, попадает в тело тринадцатилетнего великого князя Александра Александровича — второго сына императора всероссийского Александра Николаевича (то есть Александра Второго). И блеснуть бы эрудицией из двадцать первого века, но оказывается, что он, как последний лавочник, едва знает французский и совсем не знает немецкого, а уж этим ужасным гусиным пером писать совершенно не в состоянии. И заняться бы прогрессорством, но гувернеры следят за каждым его шагом, а лейб-медик сомневается в его душевном здоровье. Да и государь — вовсе не такой либерал, как хотелось бы… Как изменилась бы история России, если бы Александр Третий оказался не туповатым консерватором, попавшим под влияние властолюбивого Победоносцева, а человеком совершенно других взглядов, знаний и опыта?