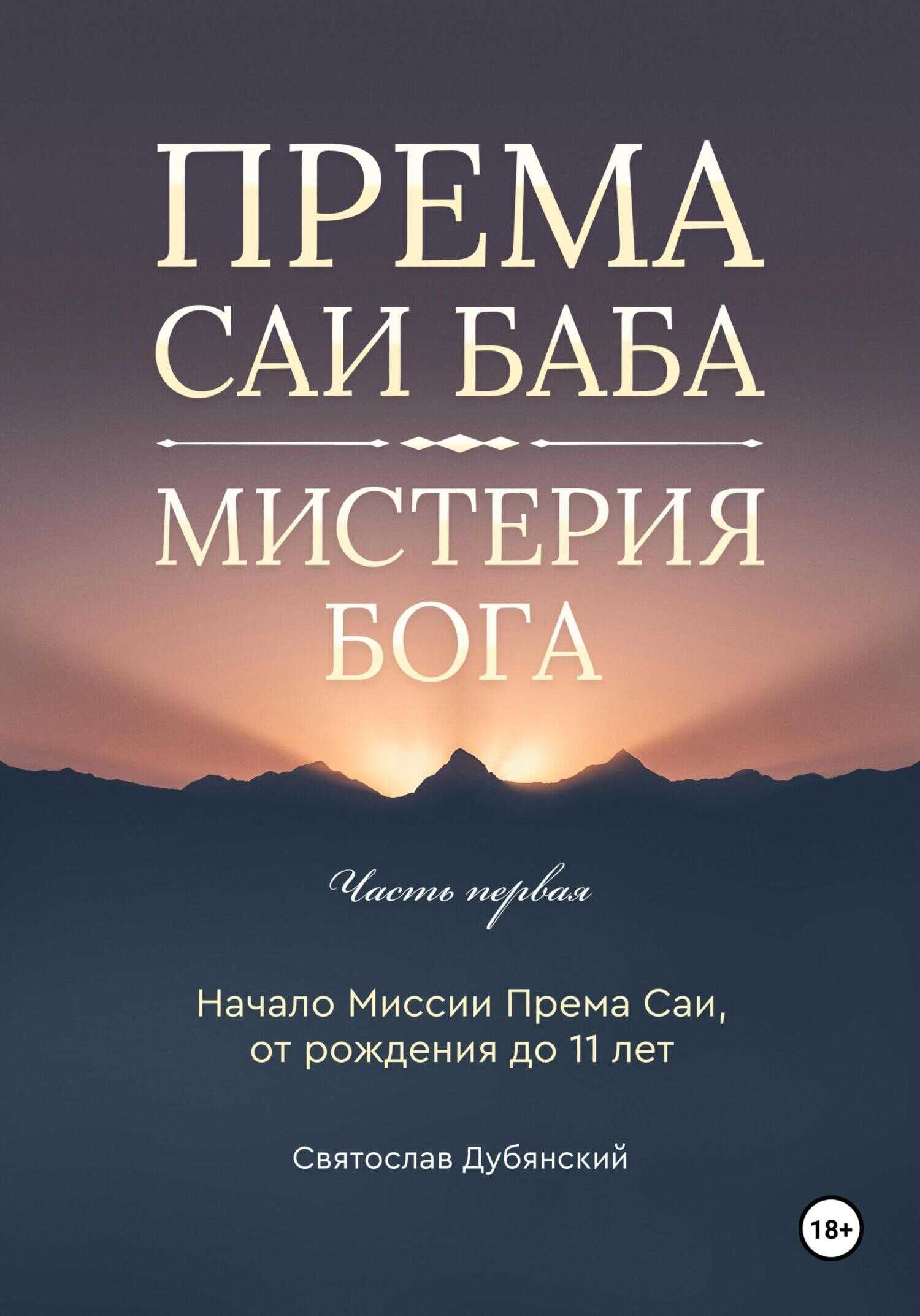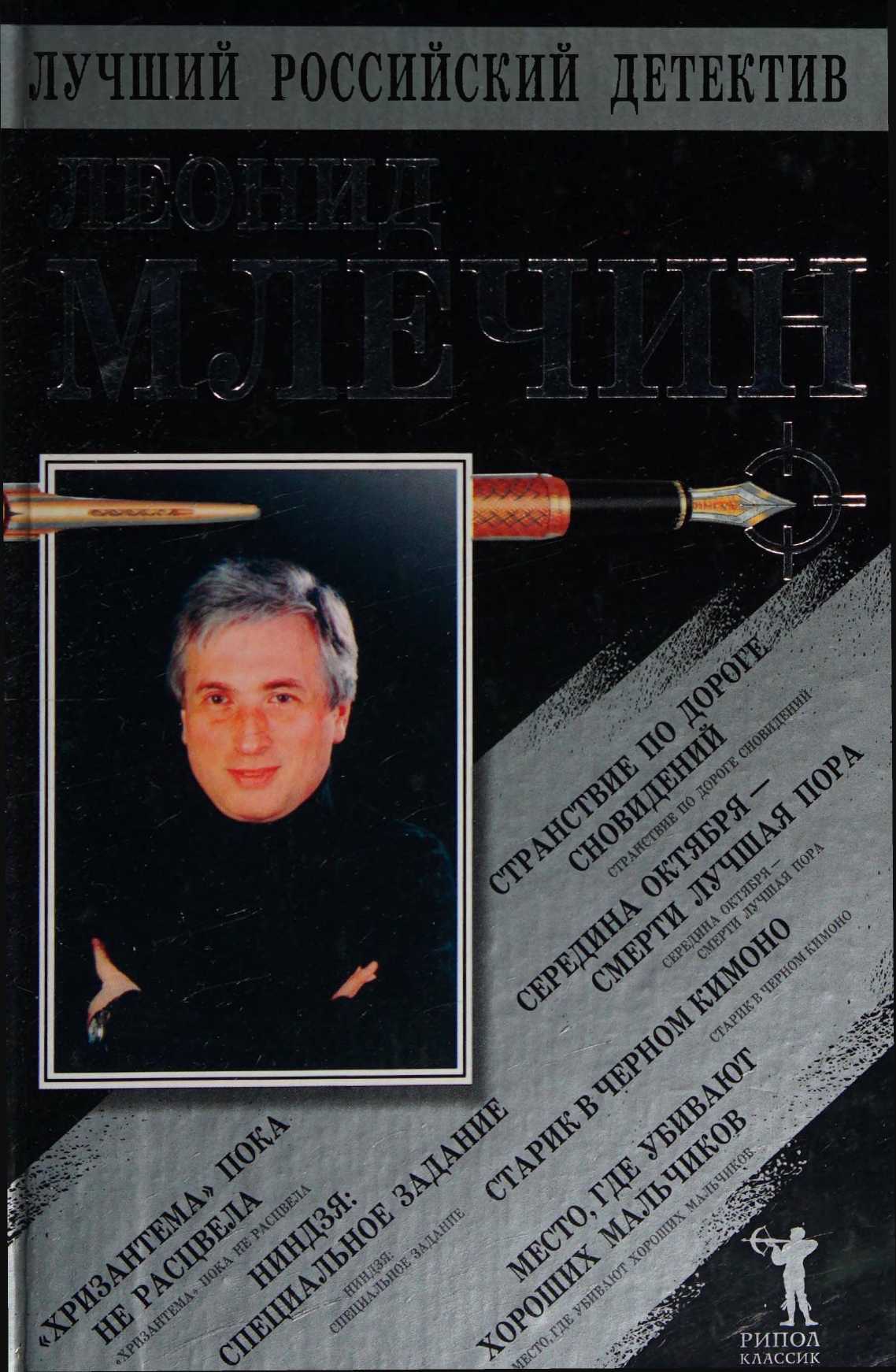Шрифт:
Закладка:
— Велик грех, подумаешь! Но я тебе скажу: это поколение особой закалки. Тройной. Они столько вынесли, что у них, наверное, особый иммунитет выработался. Мы с тобой из другого теста. Пожиже.
— Можно подумать, ты живешь в Калифорнии и получаешь от жизни только наслаждение! О себе вообще молчу.
— Мы с тобой войну не переживали и того, что до нее, тоже. А наше личное… Это для нас трагедия, а с точки зрения истории — так, плевок из космоса.
На скромных поминках Лидия Эдуардовна неожиданно произнесла вслух то, о чем я думала и за что себя упрекала:
— Несправедливо. Обо мне смерть забыла, молодых подбирает. Ну, да с Господом судиться не будешь, он знает, что делает.
— Да, зажились мы с тобой, — поддержала ее Мария Степановна. — Хотя у нас теперь Регина — как оставишь? Придется, видно, тянуть…
— Я могу переселиться в интернат, — неизвестно на что обиделась я.
— Туда, как и на кладбище, всегда успеешь, — отмахнулась Лидия Эдуардовна. — Жизнь, Региночка, — штука сложная, никогда не знаешь, что завтрашний день принесет.
Вот это было правильно, хотя завтрашний день ничего не принес. Но через неделю после этого семья Френкелей получила разрешение на эмиграцию, которого они дожидались всего-навсего десять лет.
Возможно, их давно бы выпустили, если бы не Семка. Мало того, что он успел отбыть срок в лагере, так не было ни одной диссидентской акции, в которой бы он не принимал самого деятельного участия. За что его регулярно задерживала милиция и, похоже, избивала. Почему не посадили снова — загадка. Или просто недосмотр.
Когда же разрешение было наконец получено, его мать Ревекка Яковлевна, боявшаяся всего на свете, вдруг наотрез отказалась уезжать, намереваясь умереть на Родине. Семен терпеливо уговаривал ее, пока не взорвался:
— Или мы едем все вместе, или вообще не едем! Как ты будешь одна с отцом, подумай? Дом расселят, через пару лет ты очутишься одна на последнем этаже где-нибудь у черта на рогах и никому до тебя не будет никакого дела. Последний шанс — дожить остаток дней по-человечески. Там ты спокойно сможешь поставить чайник на плиту и никто тебя за это не обзовет «жидовской мордой».
Тетя Рива сдалась и начала готовиться к отъезду, то есть перебирать свои нищенские «сокровища» и размышлять, что брать, а что оставить. Размышления эти прерывал тот же Семен, который просто сгребал в охапку содержимое очередной коробки или узла и молча тащил все это на помойку. Одним словом, не соскучишься.
Меня он развеселил тоже: предложил руку и сердце. Наверное, следовало согласиться, но здравый смысл удержал. Кому я там нужна — калека?
— А кому ты нужна здесь? — резонно спросил Семен. — Елене Николаевне? Марии Степановне? Или нашему передовику-антисемиту?
— Не знаю. Знаю только, что с таким «обозом» — парализованный отец и полупарализованная жена — тебе там не обрадуются. И вообще не дури. Что тебе приспичило тащить за собой жену местного изготовления? Да еще русскую. Женишься там на своей…
— А я, может, патриот! И потом лучше русских женщин не бывает, это уж ты мне поверь. Когда-то я это на практике проверил. А теперь, Региночка, мне никакой женщины уже не нужно — охранники в лагере постарались, соседи по нарам добавили, родная милиция в Москве завершила.
— Не сходи с ума. Спасибо, конечно, за заботу, но никуда я не поеду. Женись на Ирине, она не чает отсюда выбраться.
— Ладно, — покладисто согласился Семен, — посиди пока здесь. А когда надоест — напиши. Я тебе оттуда жениха пришлю. Настоящего.
— Договорились. Только чтобы брюнета, с голубыми глазами, не старше тридцати пяти, рост — метр девяносто, вес — девяносто, плечи широкие, пальцы — тонкие. Я девушка привередливая, с моей красотой можно и повыпендриваться.
— Не ерничай, терпеть этого не могу! Это у нас, если в кресле, то инвалид и должен плести авоськи. А там — просто немного ограниченный в передвижении человек. А вообще ты довольно красивая, особенно если причешешься…
Я запустила в Семку подушкой. А он в тот же вечер сделал предложение Ирке. Если Семеном овладевала идея — средства против нее не было.
Ирина тоже отказала: она все еще надеялась на брак по любви. Так что Семену и во второй раз не удалось никого осчастливить. А вот третья попытка была успешной.
Верочка Сергеева, к неописуемому ужасу своего одряхлевшего отца-антисемита, оказалась, как тогда говорили, «девицей легкого поведения». «Интердевочка» еще не была написана, посему профессия путаны в моду не вошла. Верочка была одной из первых, так сказать «легальных», то есть не слишком маскирующих свое занятие от общественности. Отец, разумеется, все узнал последним. И то когда чисто случайно уронил дочкину сумочку на пол и оттуда выпала пачечка «не наших» денег.
Сцена, разыгравшаяся вслед за этим, была чудовищной. Иван Ильич кричал так, что слышно было не только по всей квартире, но, наверное, и в доме напротив. Слов, разумеется, не выбирал, говорил те, которые хорошо усвоил с детства. Верочка отвечала тише, но лексикон у нее был примерно такой же. Самым приличным выражением в устах отца было «шлюха», у дочери — «старый идейный козел». Старик посулил проклясть родное дитятко, но это не произвело на юную деву решительно никакого впечатления. Она только фыркнула:
— Ты уже двоих проклял, так они как сыр в масле катаются да еще тебя не видят, как я, каждый божий день. Прокляни — может, и мне повезет.
И Иван Ильич действительно проклял Верочку.
Я напомню: Вера говорила сравнительно тихо. Поэтому Семен, вообще глуховатый, расслышал только ругань старика. И, одержимый своей навязчивой идеей спасти кого-нибудь еще из этого совкового кошмара, предложил Верочке стать его женой. И уехать за границу. А там она сама будет решать, что ей делать.
С моей точки зрения, Верочка была вполне нормальной и неплохой девочкой. Просто ею некому было заняться. Поздний ребенок, предмет слепого обожания отца и матери, она была, безусловно, страшно избалована. А ее «валютные занятия»… Я лично о них догадалась довольно быстро, потому что поздно вечером или даже ночью частенько видела, как ее подвозят к дому на роскошных машинах. Окна мои прямо над подъездом, бессонница давно стала неотъемлемой частью жизни, так что и не захотела бы — так увидела. Да и она сама от меня особенно не таилась.
Так уж вышло, что о своем первом «любовном» опыте — а было ей лет шестнадцать — Верочка рассказала именно мне: больше было некому, а выговориться хотелось. Собственно, любовь там была