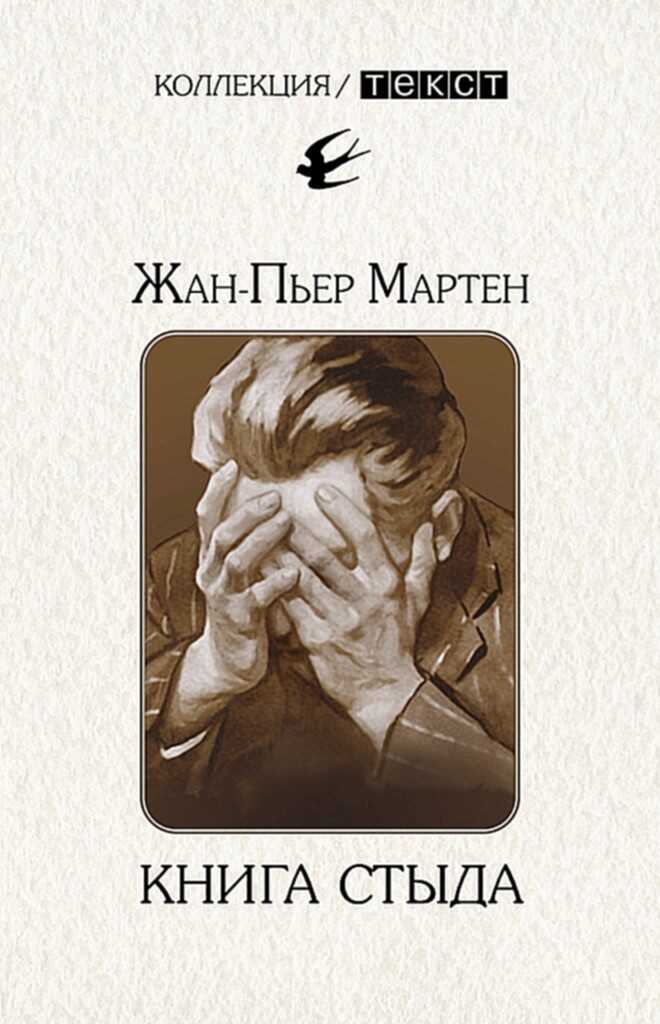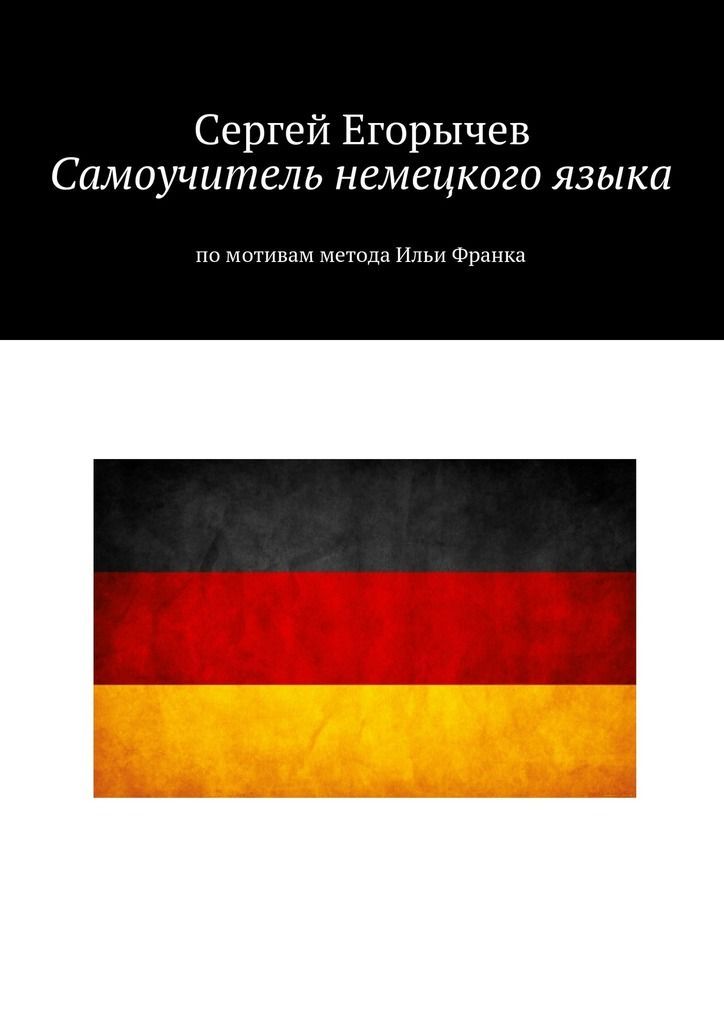Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
В своей книге Жан-Пьер Мартен находит один из наиболее тонких нервов современной литературы — тему стыда. О стыде пишут Руссо и Достоевский, Конради Готорн, Кафка и Мисима, Камю и Жене… Но стыд присутствует в литературе не только на уровне сюжета. Само творчество сопряжено со стыдом — стыдом писать и быть автором, чьи произведения выставляются напоказ перед читателем. Вместе с тем именно благодаря процессу письма оказывается возможным преодолеть сковывающий автора стыд. Высвободить стыд и превратить его в литературу — таков один из стержней творчества.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Жан-Пьер Мартен»: