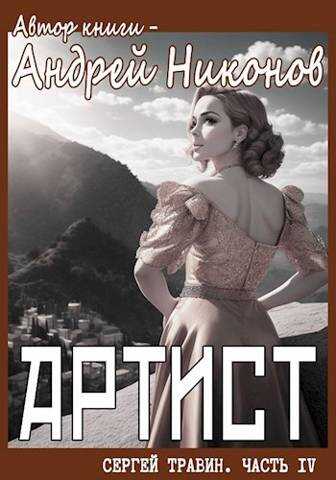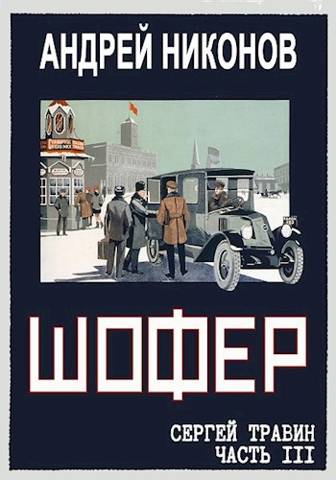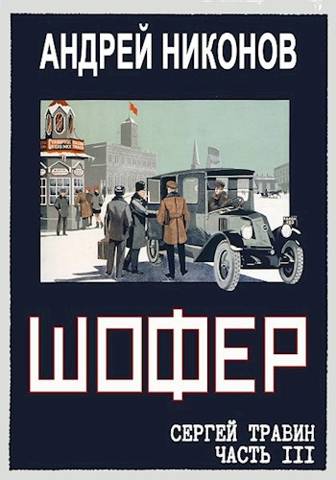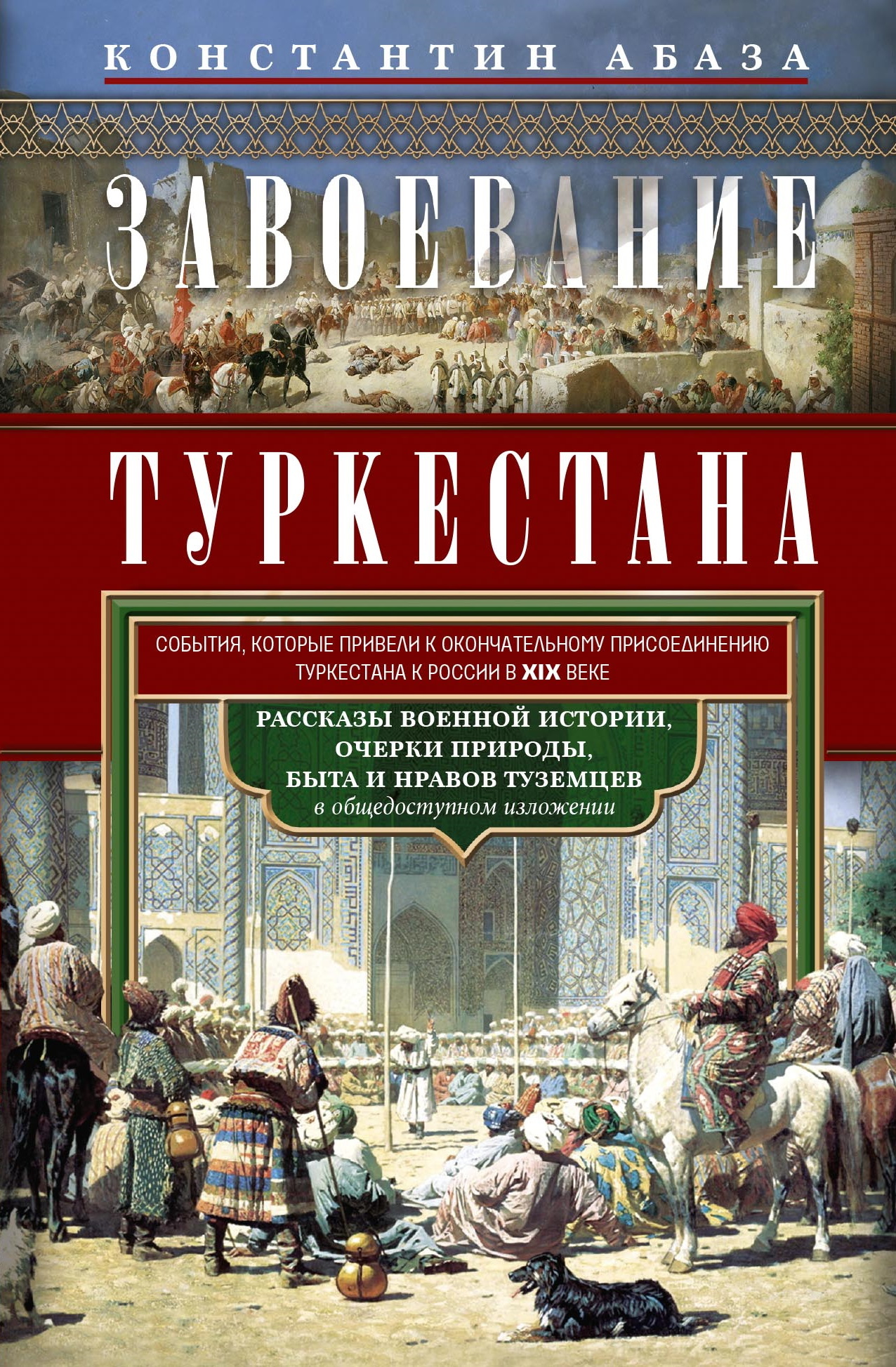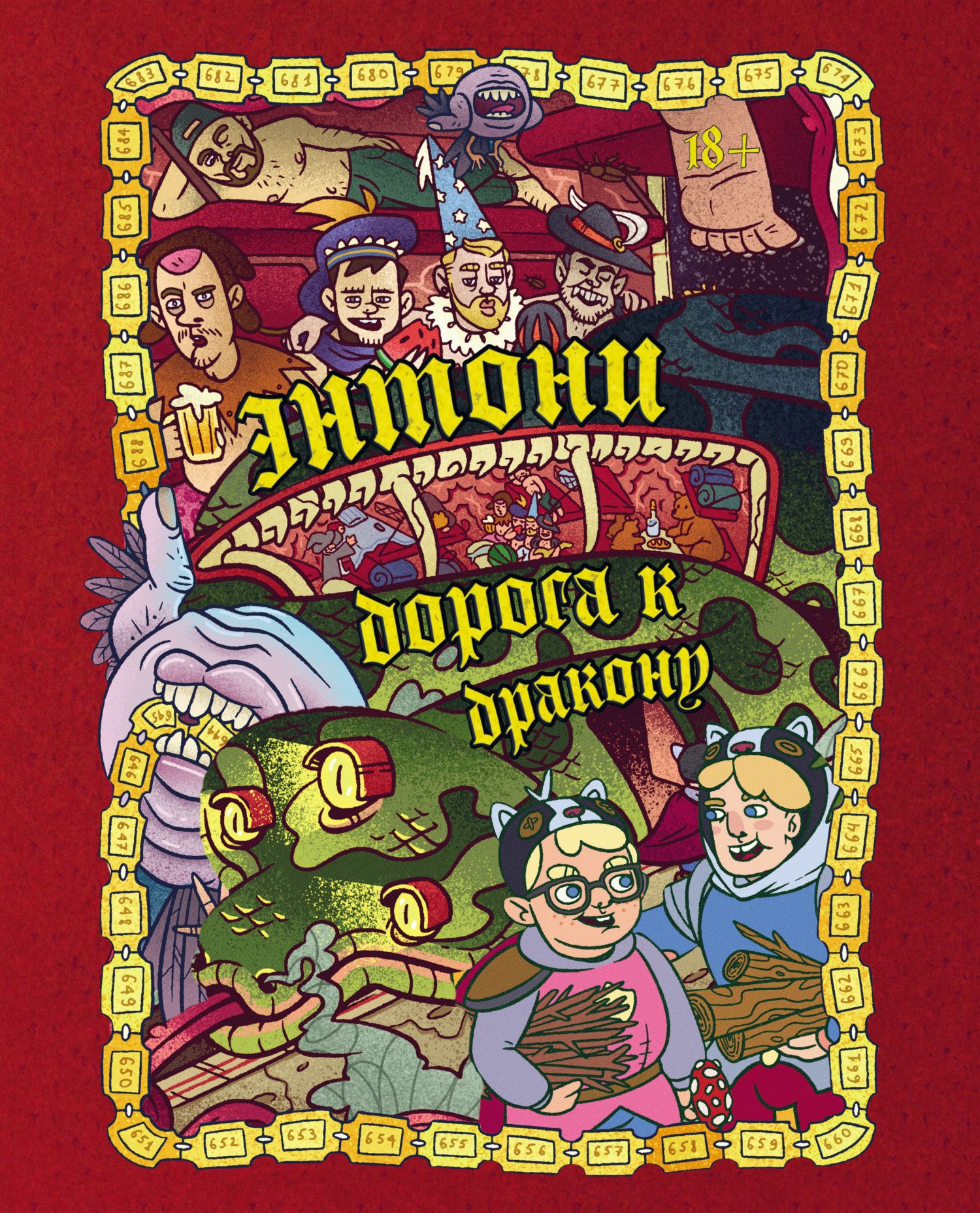Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Москва, 1925 год. Время, когда рабочий в месяц получал 40 граммов чистого золота , частная торговля процветала, на набережной Кремля отдыхали нудисты, девушки делали кудряшки "под Мэри Пикфорд", голливудские звёзды останавливались в гостинице "Савой", а в городе появились первые таксомоторы. Сергей Травин, представитель сугубо гражданской профессии, не догадывается, что скоро судьба бросит его на борьбу с преступностью.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Андрей Никонов»: