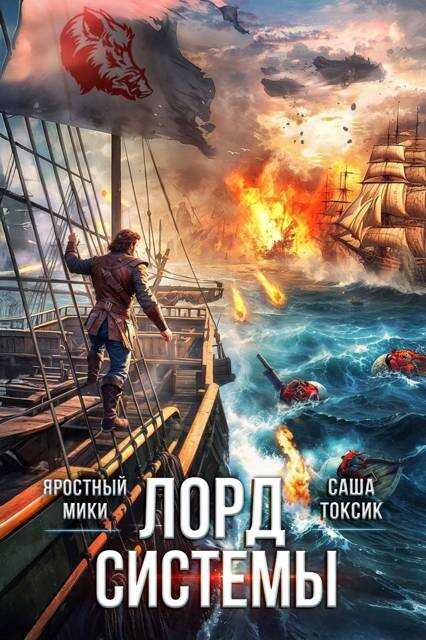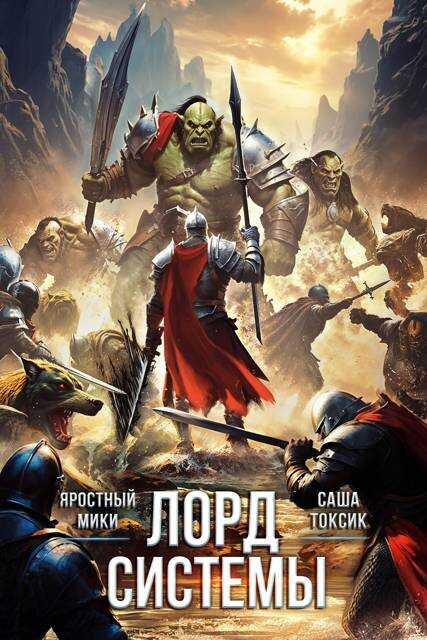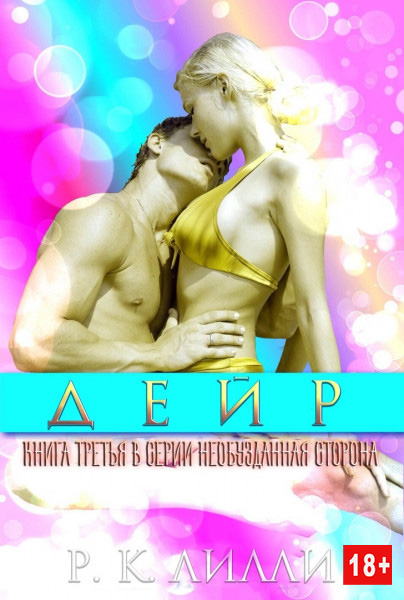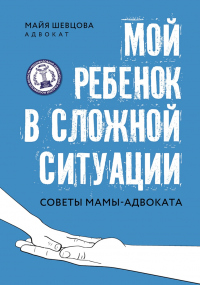Шрифт:
Закладка:
Стоп. Снято! Фотограф СССР. Том 2 - это роман российского писателя Саши Токсика, который является продолжением истории о попаданце, который оказался в 1978 году в теле фотографа советской районной газеты. Главный герой - Алексей, который пытается применить свои знания и навыки современной фотографии в условиях дефицита и цензуры. Он снимает не только колхозные праздники и доски почета, но и красивых девушек в стиле “ню”, что вызывает интерес и возмущение у местных жителей и властей. Он также попадает в разные приключения и расследует преступления, используя свой фотоаппарат как оружие и защиту.
Стоп. Снято! Фотограф СССР. Том 2 - это книга о том, как трудно быть новатором и творцом в мире, где все подчиняется правилам и традициям. Это книга о том, как важно следовать своей страсти и мечте. Это книга о том, как можно увидеть красоту и смысл в обычных вещах.
Вы можете читать книгу онлайн на сайте knizhkionline.com или купить ее в бумажном или электронном формате. Это забавный и захватывающий роман одного из самых необычных российских писателей, который не оставит вас равнодушными.