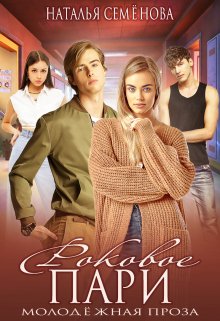Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Отношения мужчин и женщин, родителей и детей, семейная жизнь и повседневные заботы, бурный взлет общественно-политической жизни и новейших веяний в искусстве Серебряного века, — писатель шутит обо всем, в основном благодушно и доброжелательно, но временами — и с горькой иронией. Ситуации и герои, представленные в рассказах автора, зачастую гротескны — и от этого еще более правдивы. Именно в таком причудливом изображении действительности обнаруживается мастерство Аверченко и его подлинная житейская мудрость. В этом сборнике представлена блестящая коллекция рассказов, наполненная искрометным юмором, живой и остроумной сатирой на нравы и быт русского общества начала ХХ века.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Аркадий Тимофеевич Аверченко»: