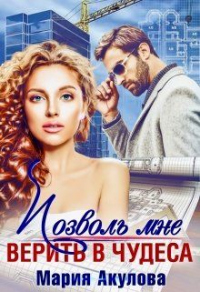Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Ему 29. Он плюёт на правила и не видит берега. Он привык добиваться своего. Однажды он решает, что хочет ее. Ей 23. Она боится людей, избегает их, знает: они слишком легкомысленно творят зло, но однажды решает рискнуть и впустить в свою жизнь именно его. — Почему молчишь? — Думаю о тебе и твоих странностях, Агата. Давай уточним. Тебе 23. Ты стараешься не выходить из квартиры. Не общаешься с людьми вживую. Никогда не ходила на свидание. Ни с кем не целовалась. О сексе я молчу. Ты работаешь в интернете, по сути живешь в нём. В детстве с тобой что-то случилось, но говорить ты не готова. Всё верно? — Да. Теперь ты должен покрутить пальцем у виска и выйти из чата… — Должен. Но я сделаю иначе. Если я найду твой адрес — пустишь? Я хочу открыть семь твоих замков. Я хочу оказаться внутри.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Мария Акулова»: