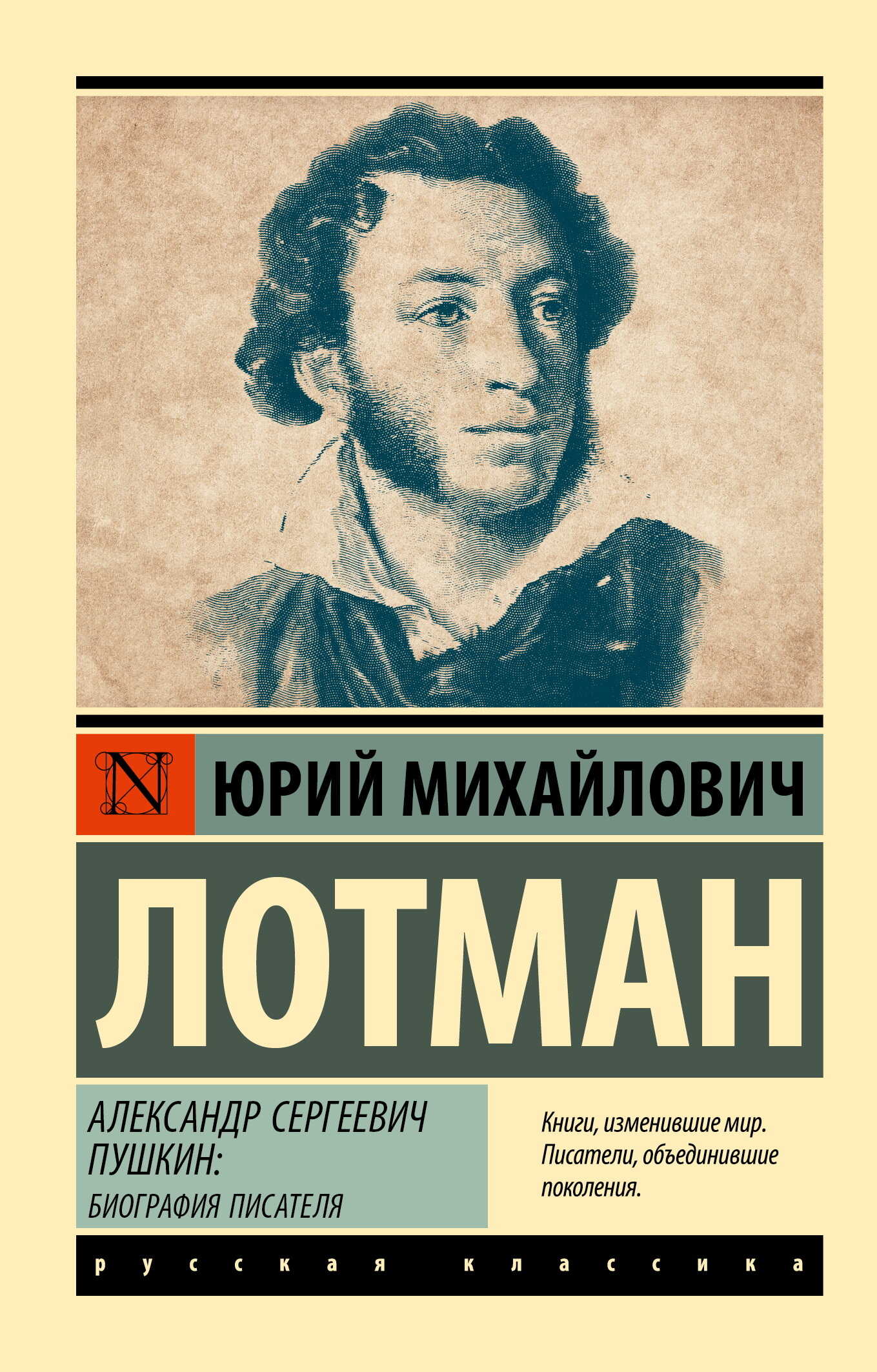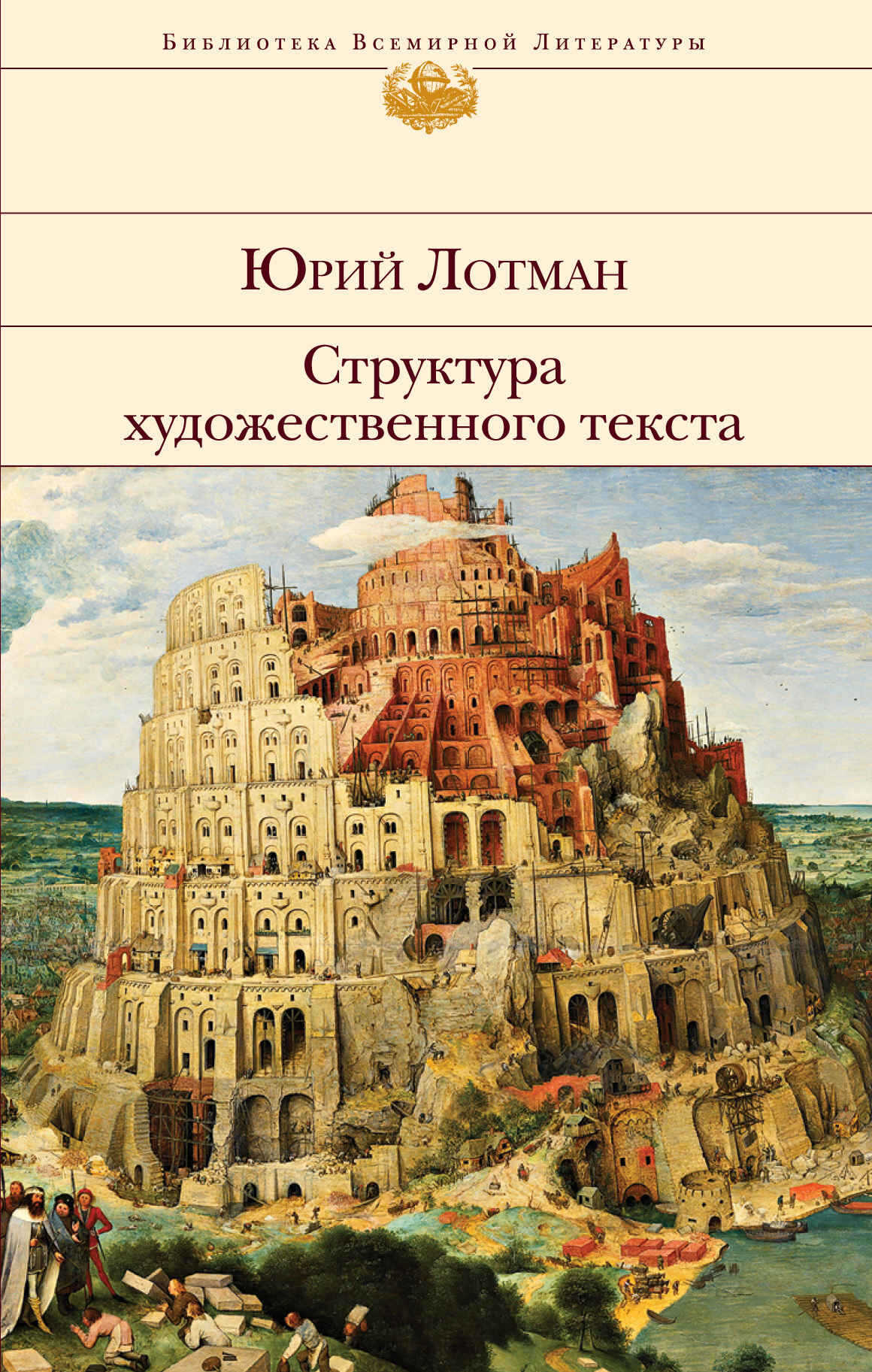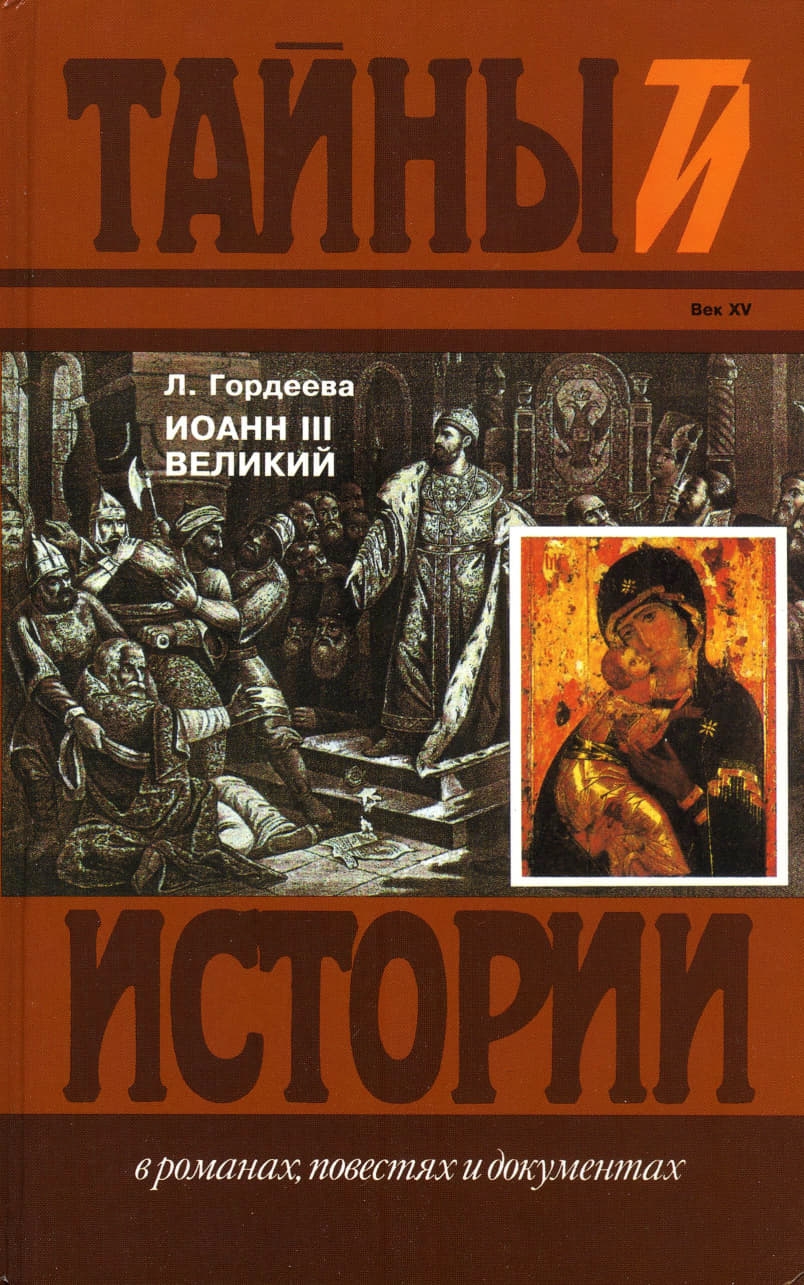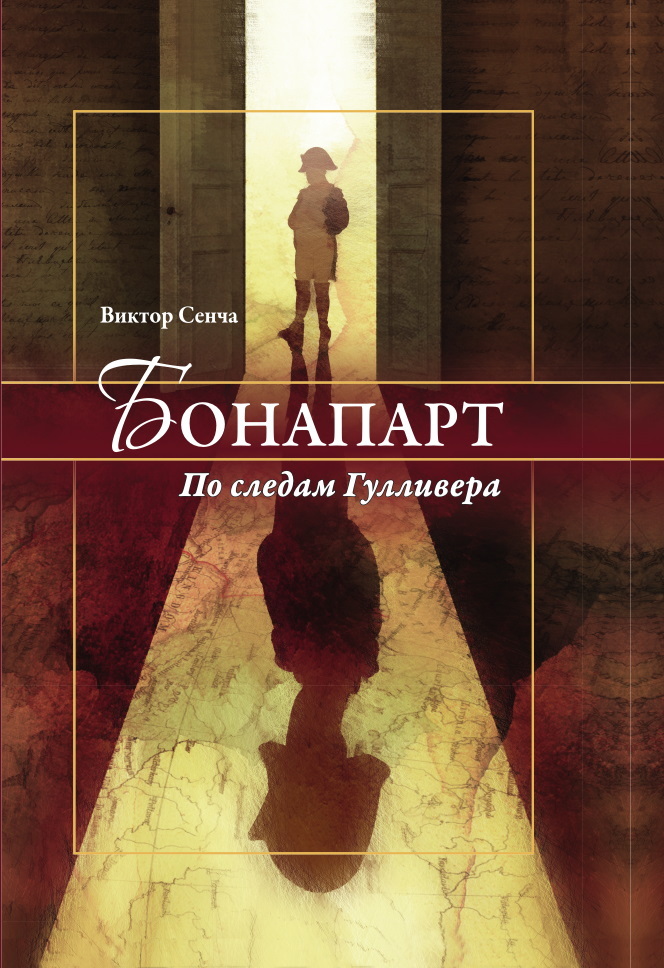Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Жизнь Пушкина всегда была предметом исследования литературоведов, поэтому немало трудов посвящено его жизни и творчеству, но именно монография Юрия Михайловича Лотмана считается классикой пушкинистики. Лотман-биограф описывает основные этапы жизни Пушкина, его становления как личности и поэта, в контексте историко-политических событий XIX века. Эта книга будет интересна тем, кто желает познакомиться не только с Пушкиным-поэтом, но и Пушкиным-человеком.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Юрий Михайлович Лотман»: