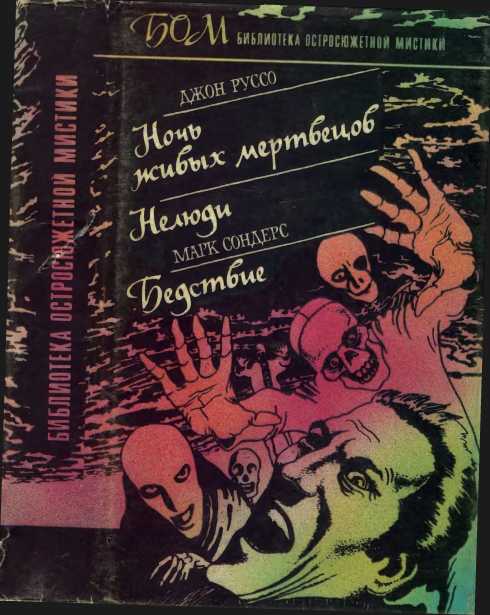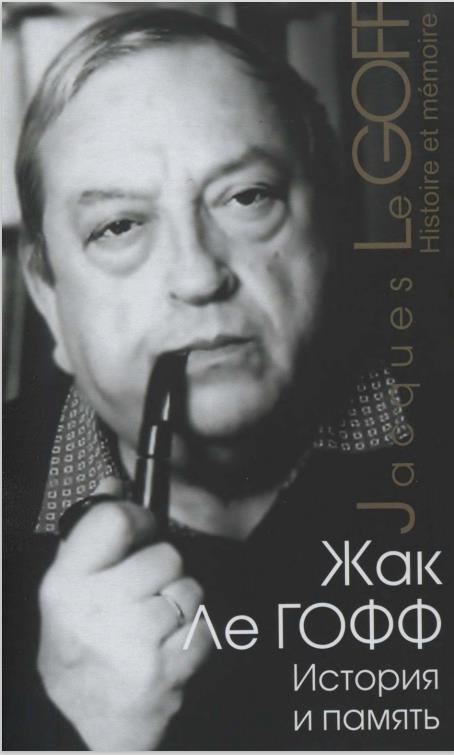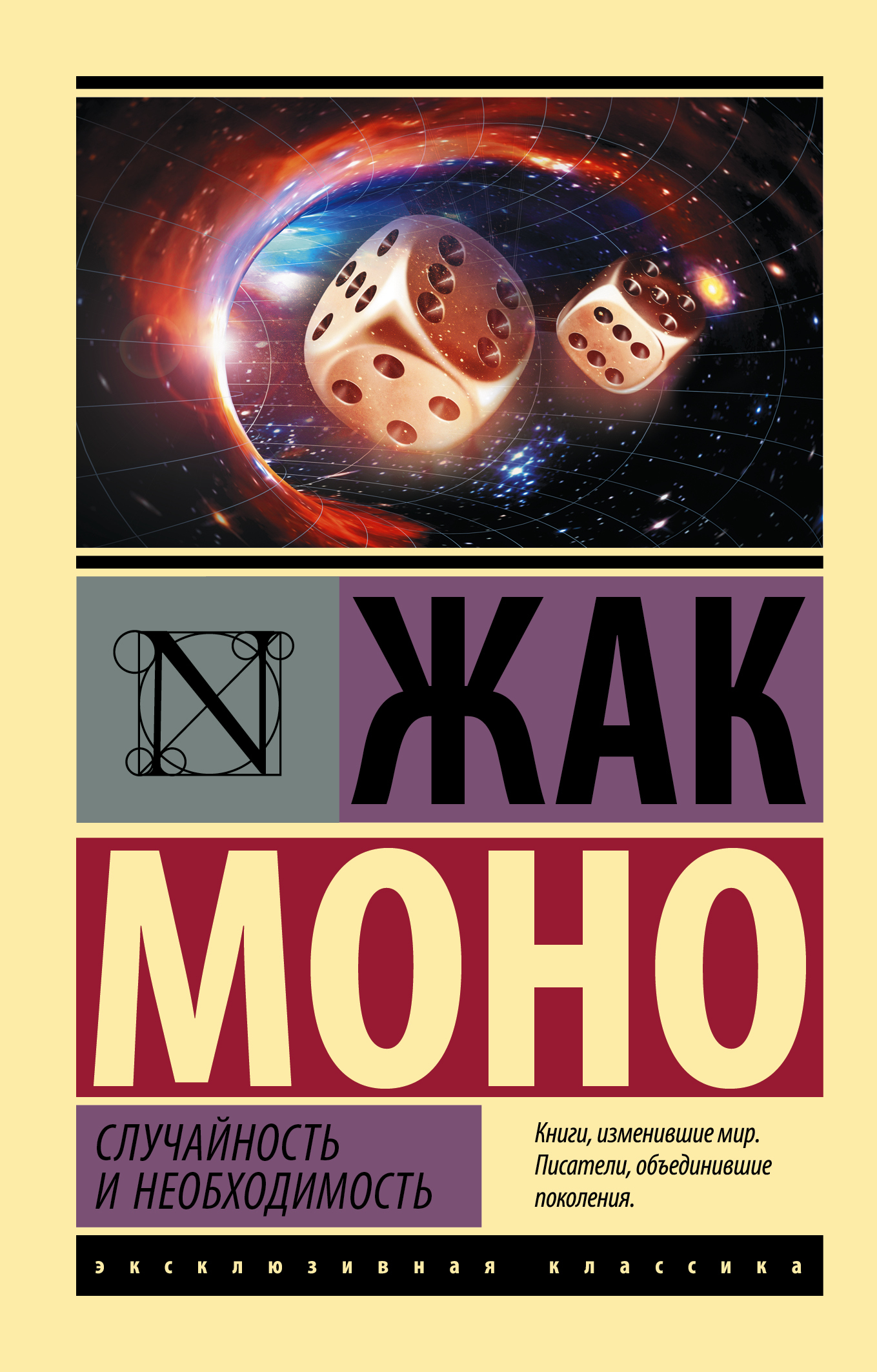Шрифт:
Закладка:
Константин Воробьев (1919–1975) – советский писатель-классик, яркий представитель «лейтенантской прозы», автор книг «Убиты под Москвой», «Крик», «…И всему роду твоему». Участник обороны Москвы 1941 года, он попал в плен – и прошел через лагеря, в том числе в Саласпилсе, Каунасе и Паневежисе, дважды бежал и в итоге возглавил в Литве «самочинный» партизанский отряд из бывших военнопленных. Повесть «Это мы, Господи!..» – автобиографична, написана в 1943 году, за 30 дней, на чердаке в литовском городе Шауляй, когда возглавляемая Воробьевым группа партизан вынуждена была уйти в подполье. В 1946 году рукопись была предложена журналу «Новый мир», но страшная правда о войне не вписывалась в одобренный «героический» дискурс военной прозы, и автору было отказано; повесть увидела свет лишь в 1986 году, после смерти писателя. Повесть «Вот пришёл великан…» (1971) была замечена сразу. Главный герой объездил полмира матросом на рыболовецком траулере, чтобы исполнить мечту: заработать денег, сесть и написать книгу. Но законченный роман приносит предсказуемые отказы от издательств и… внезапную встречу с главной женщиной его жизни. Но женщина оказывается – замужней, чистая и светлая любовь – беззаконной, а обстоятельства и обывательское ханжество общества – непреодолимыми…