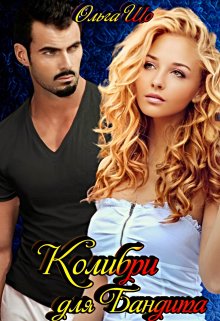Шрифт:
Закладка:
Обычный служащий из американского Балтимора всегда мечтал о морских путешествиях. Купив вместе с другом небольшую яхту и заручившись поддержкой местного музея Джилберт Клинджел организовал научную экспедицию для изучения пустынных островов Карибского моря у побережья Юкатана. Но друзья так и не добрались до пункта назначения. Их лодка разбилась о рифы Багамских островов. Выбравшись на берег, натуралисты-любители решили не отменять экспедицию, а просто изменить объект изучения. Живя в полуразрушенной хижине они исследуют остров, разбивая ноги о камни, забираются в пещеры с летучими мышами и плавают вокруг рифа в компании акул. Несмотря на все сложности путешествия, через несколько лет Клинджел вернулся на остров, чтобы продолжить исследования. Дневники двух экспедиций легли в основу этой книги. Книга будет одинаково интересна и любителям экстремальных приключений, и поклонникам книг о тайнах природы.В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.