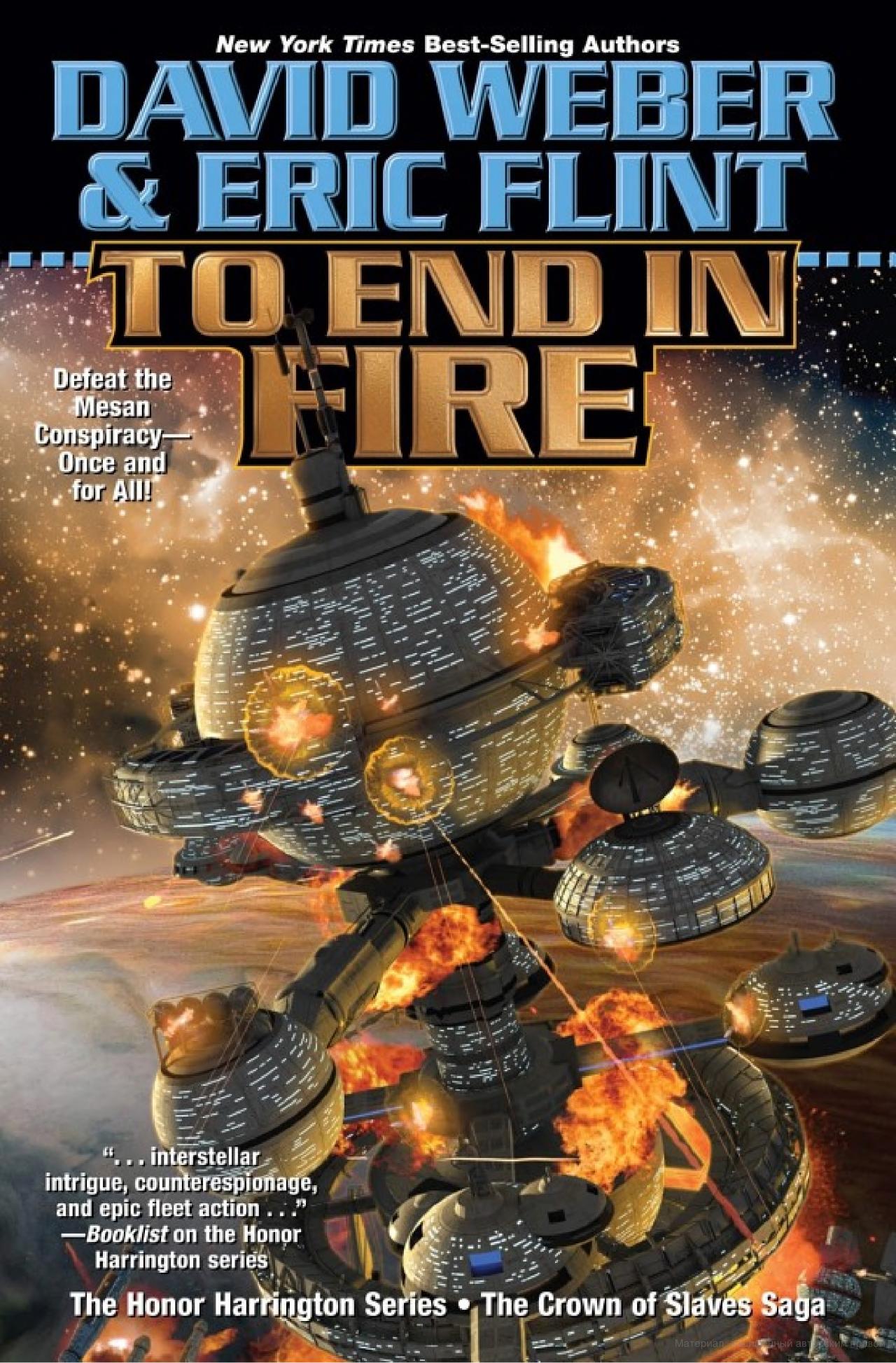Шрифт:
Закладка:
Может ли любовь быть политической силой? Может ли она способствовать справедливости и миру в обществе? Или же эмоции в политике - это только источник хаоса и насилия? Эти вопросы стоят в центре книги известной американской философини Марты Нуссбаум, которая утверждает, что политические эмоции не только необходимы, но и желательны для демократии.
Нуссбаум анализирует различные виды политических эмоций, от страха и ненависти до гордости и сострадания, и показывает, как они влияют на формирование национальной идентичности, гражданского общества и прав человека. Она рассматривает примеры таких лидеров, как Авраам Линкольн, Джавахарлал Неру и Мартин Лютер Кинг - младший, которые сумели использовать политические эмоции для укрепления демократических ценностей и противодействия дискриминации и насилию. Она также обращается к результатам антропологических исследований, которые свидетельствуют о том, что человеческая природа склонна к выстраиванию пагубных иерархий и разделению людей на «своих» и «чужих». Нуссбаум предлагает противопоставить этим тенденциям культивирование любви и расширенного сострадания - сначала к своим согражданам, а затем и к представителям других наций.
Нуссбаум утверждает, что главными инструментами в культивировании политических эмоций должны быть различные виды публичного искусства - от поэзии и музыки до памятников и музеев. Она демонстрирует, как искусство может способствовать формированию общественного дискурса, основанного на уважении, признании и солидарности. Она также рассказывает о своем собственном опыте работы с женщинами в Индии, которые через театральные постановки выражали свои эмоции и требования к социальному изменению.
Книга Марты Нуссбаум - это глубокое и оригинальное философское исследование роли эмоций в политике. Это также практическое руководство для тех, кто хочет сделать свое общество более справедливым, мирным и любящим. Вы можете читать книгу онлайн на сайте knizhkionline.com