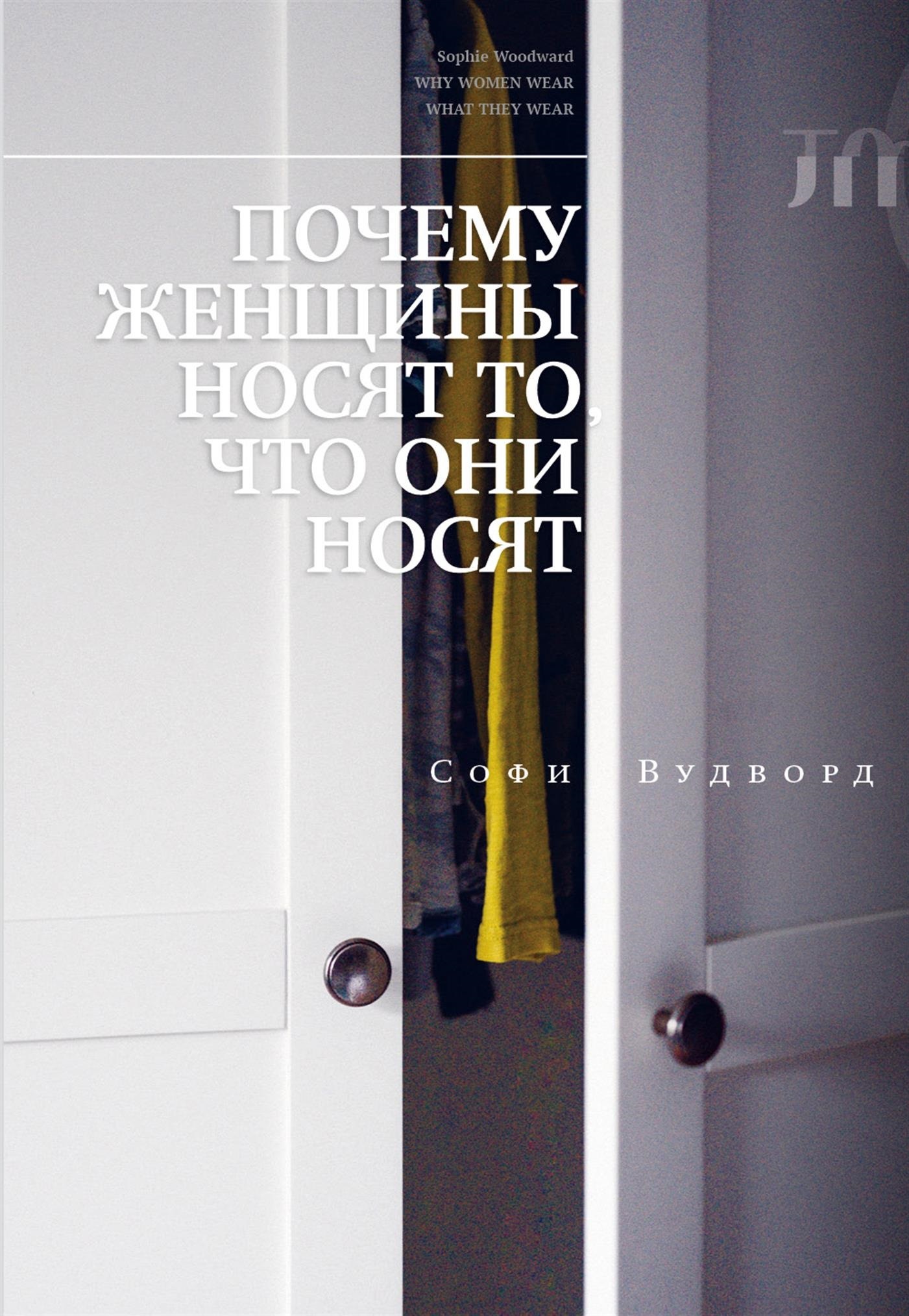Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Согласно поверьям, лестницы, перекрестки, набережные и блестящие огнями проспекты треклятые вестники разлуки и совсем не места для поцелуев. Еще нельзя громко радоваться, нельзя взяться за руки, обняться и то нельзя, ведь вдруг сглазят ненароком. А сердце девичье цветет независимо от погоды, календаря и ступеней. Милославе и замуж невтерпеж, и сессию охота без долгов закрыть, еще на работу бы успеть, и плевать она хотела на все эти суеверия, осталось только доказать суеверному суженому, что любовь, — хорошая примета!
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Катя Матуш»: