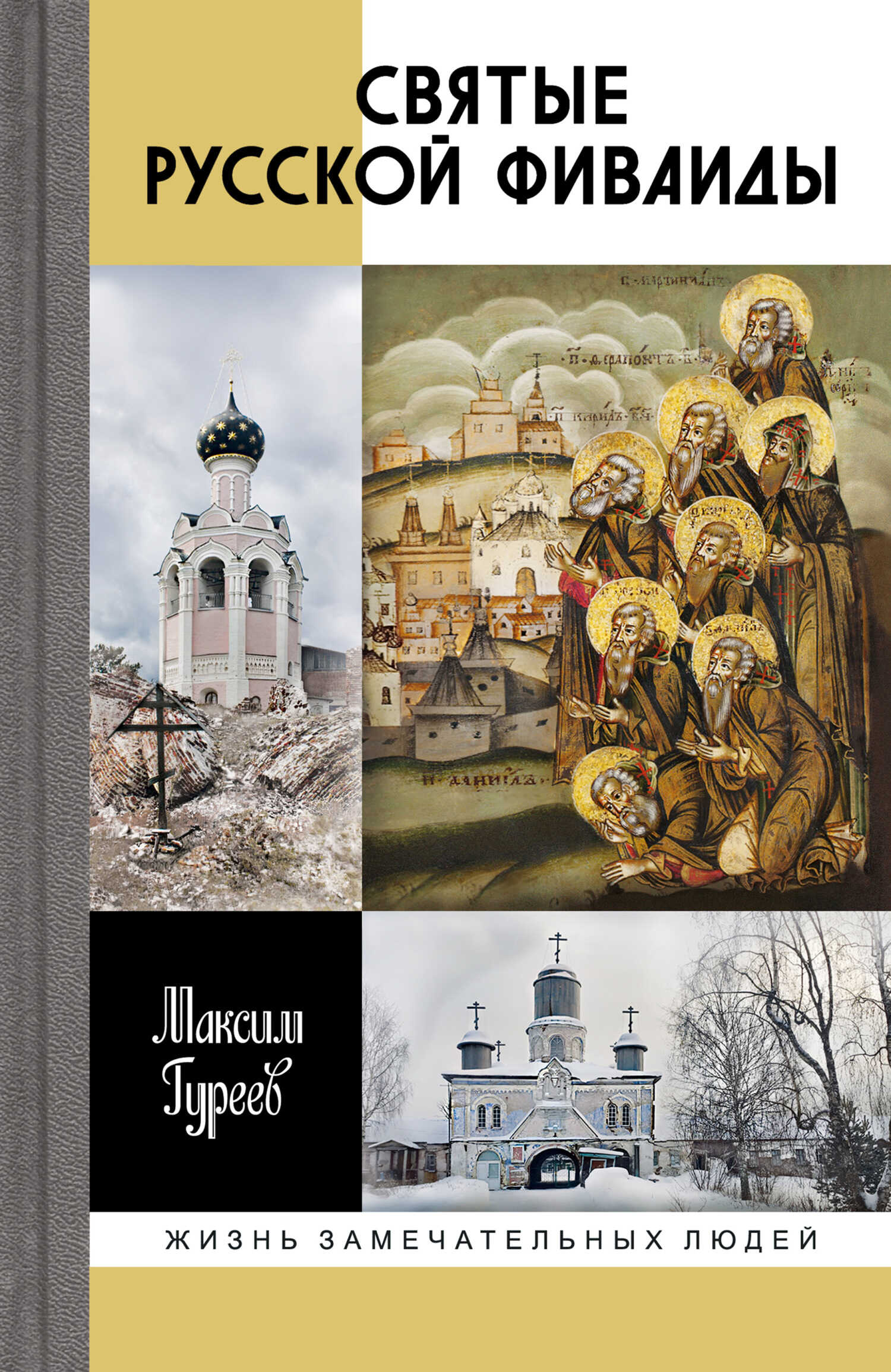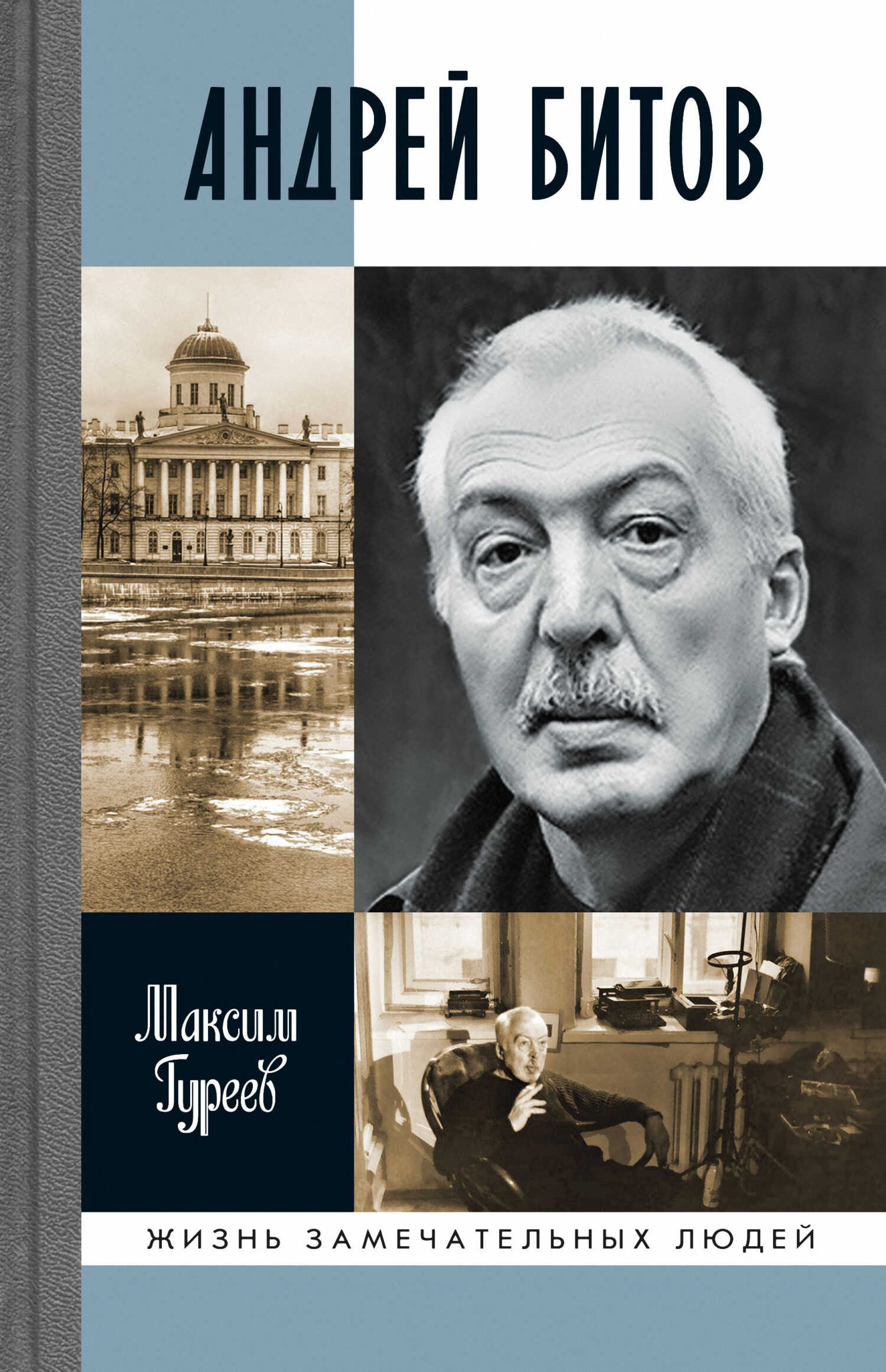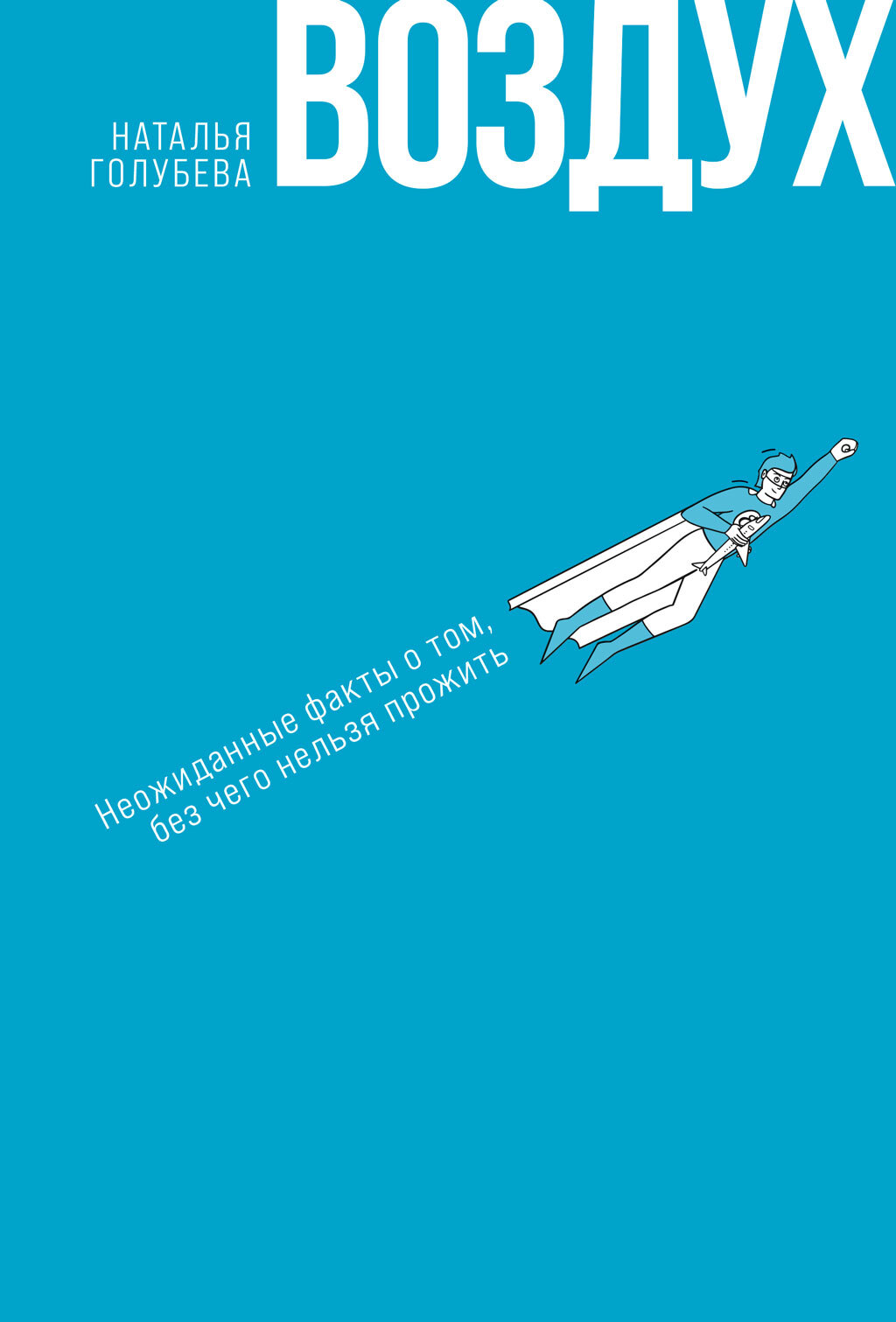Шрифт:
Закладка:
Биографическая книга Максима Гуреева «Уточкин» является, по сути, первым исследованием, посвященным выдающемуся русскому атлету и авиатору, человеку, с именем которого в России рубежа XIX–XX веков связывают начало профессионального спорта и авиационного дела. В книге сделана попытка понять и проанализировать мотивы великих и парадоксальных поступков С. И. Уточкина, его побед и поражений, взлетов и трагических падений. Одессит по происхождению, москвич по отношению к жизни, петербуржец по складу ума, Уточкин был вхож в самые разнообразные круги русского общества. О нем писали Куприн и Аверченко, Катаев и Чуковский, Утесов и Гиляровский, Олеша и Бабель, Бунин и Дон Аминадо. Сам Сергей Исаевич был тоже склонен к литературному творчеству, оставив после себя ряд мемуарных сочинений. К сожалению, герой книги прожил недолгую жизнь — он умер в 1916 году в Петрограде в возрасте 39 лет. Однако память о его первых победах на Одесском велодроме, о его полетах на аэроплане «Фарман IV» в Петербурге и Одессе, Москве и Киеве, Риге и Минске жива и до сих пор будоражит воображение любителей русской истории и русской литературы.