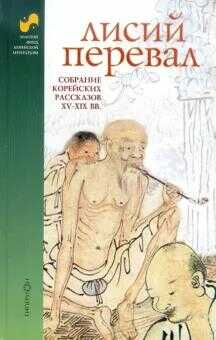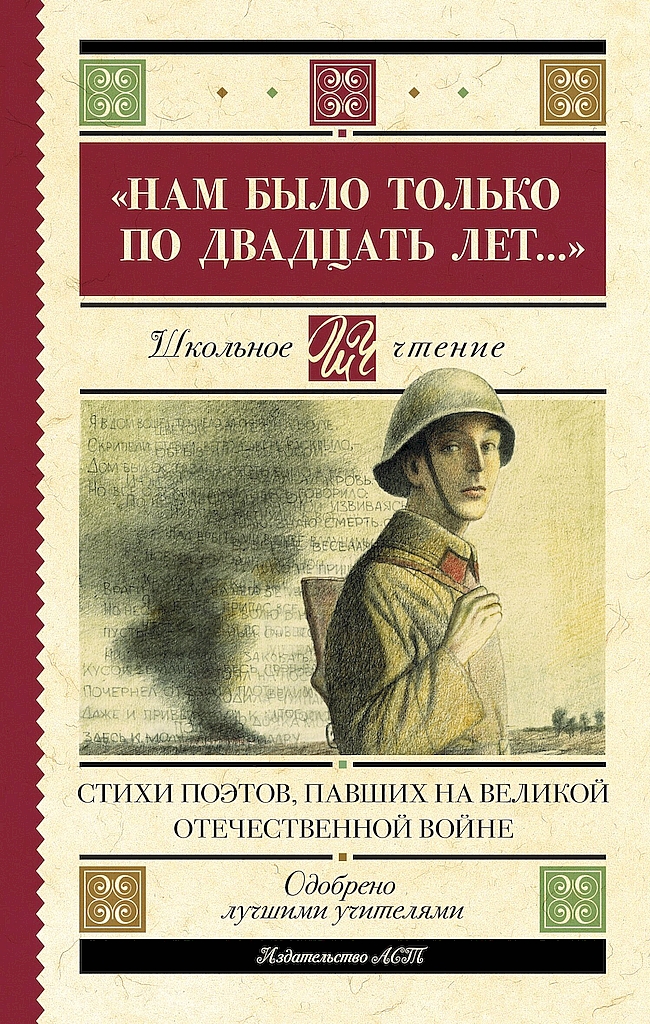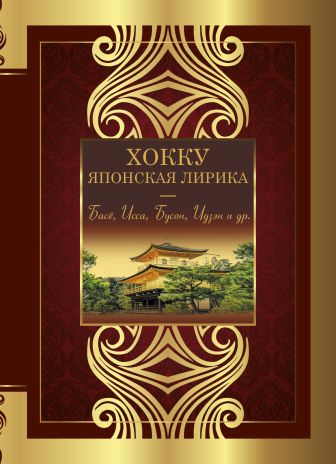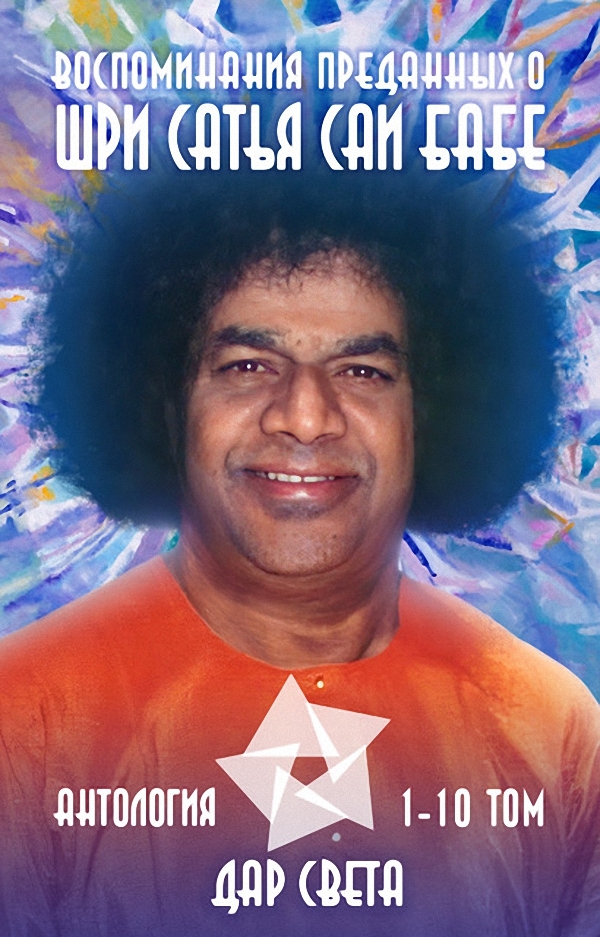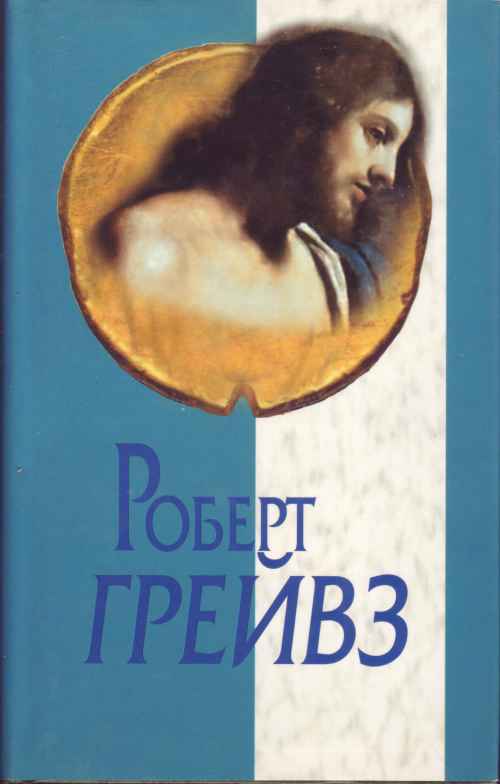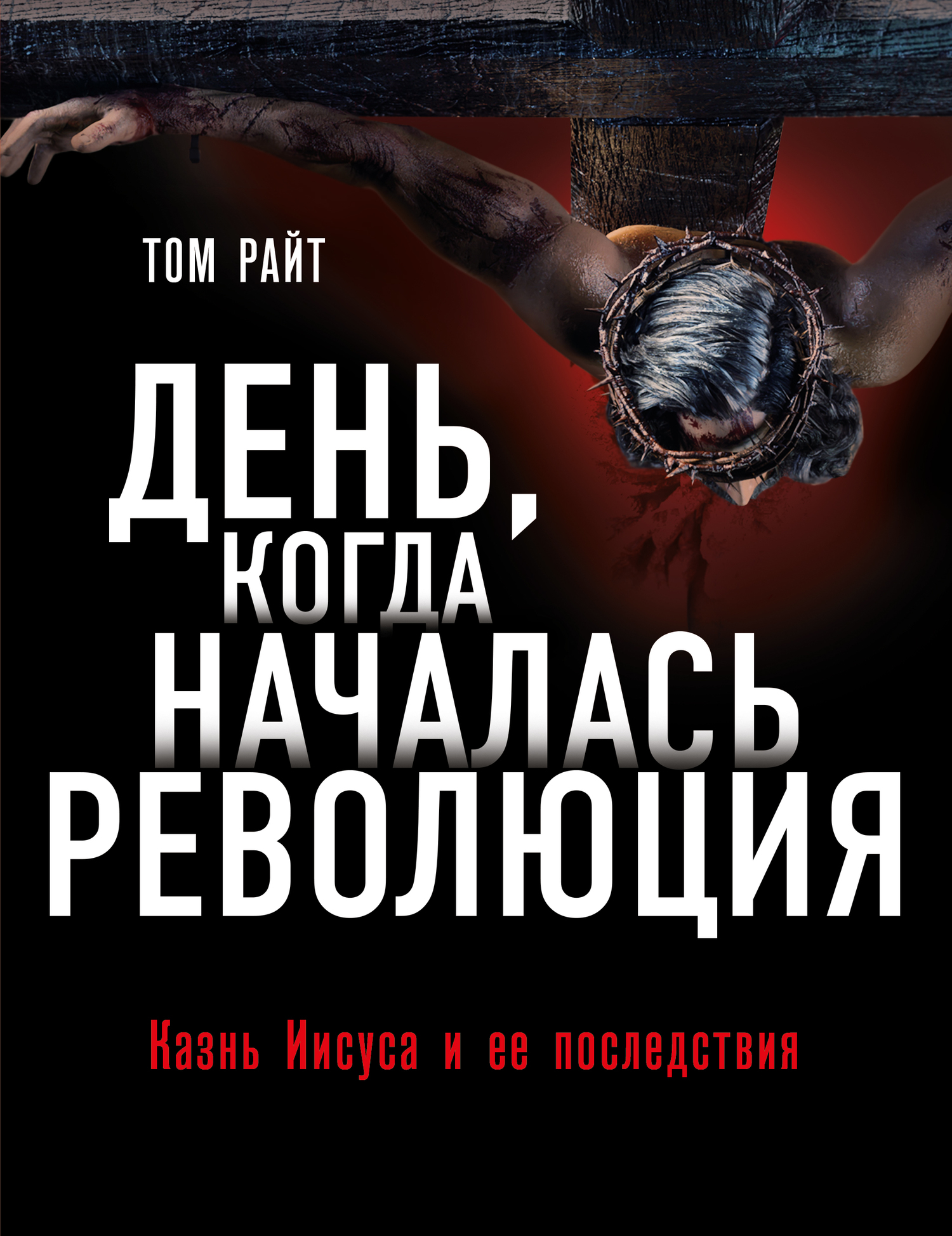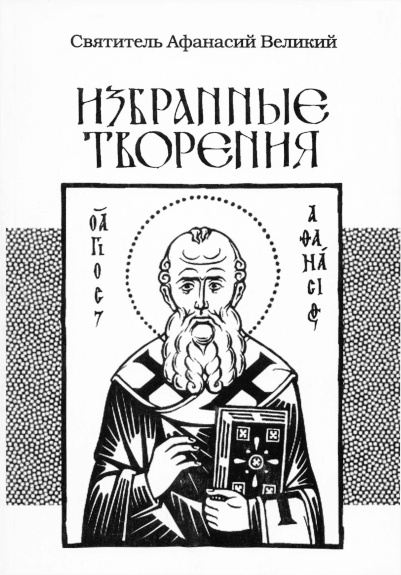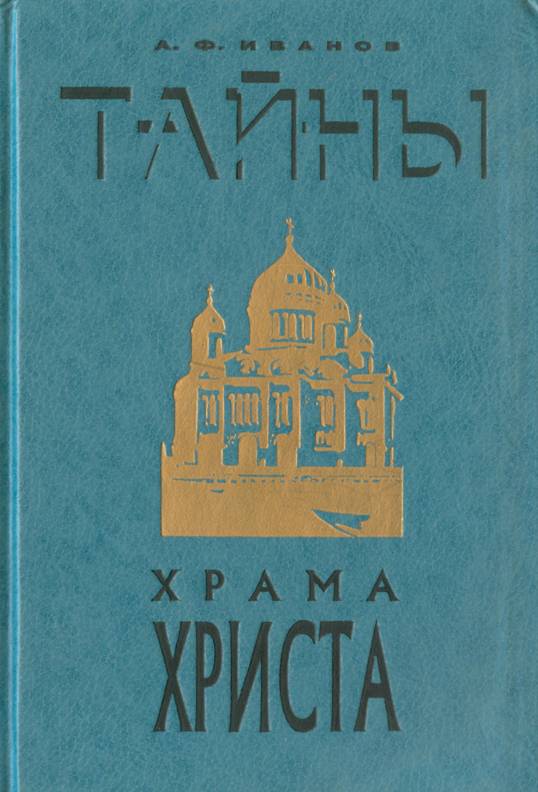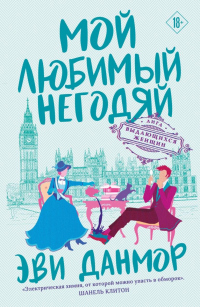Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
В антологию вошли богословские, апокрифические и литературные произведения, посвященные евангельскому Иуде Искариоту, одному из двенадцати апостолов, в том числе – комментированный перевод знаменитого «Евангелия Иуды», недавняя публикация которого стала мировой сенсацией.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Антология»: