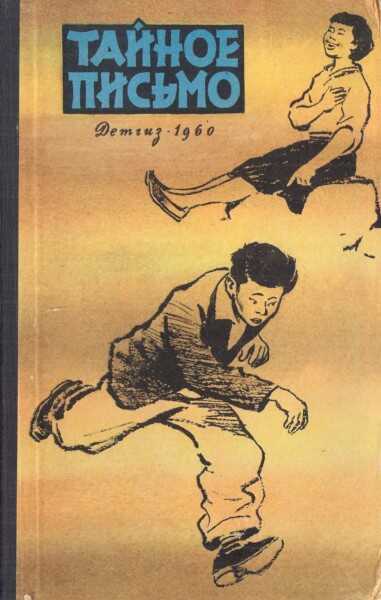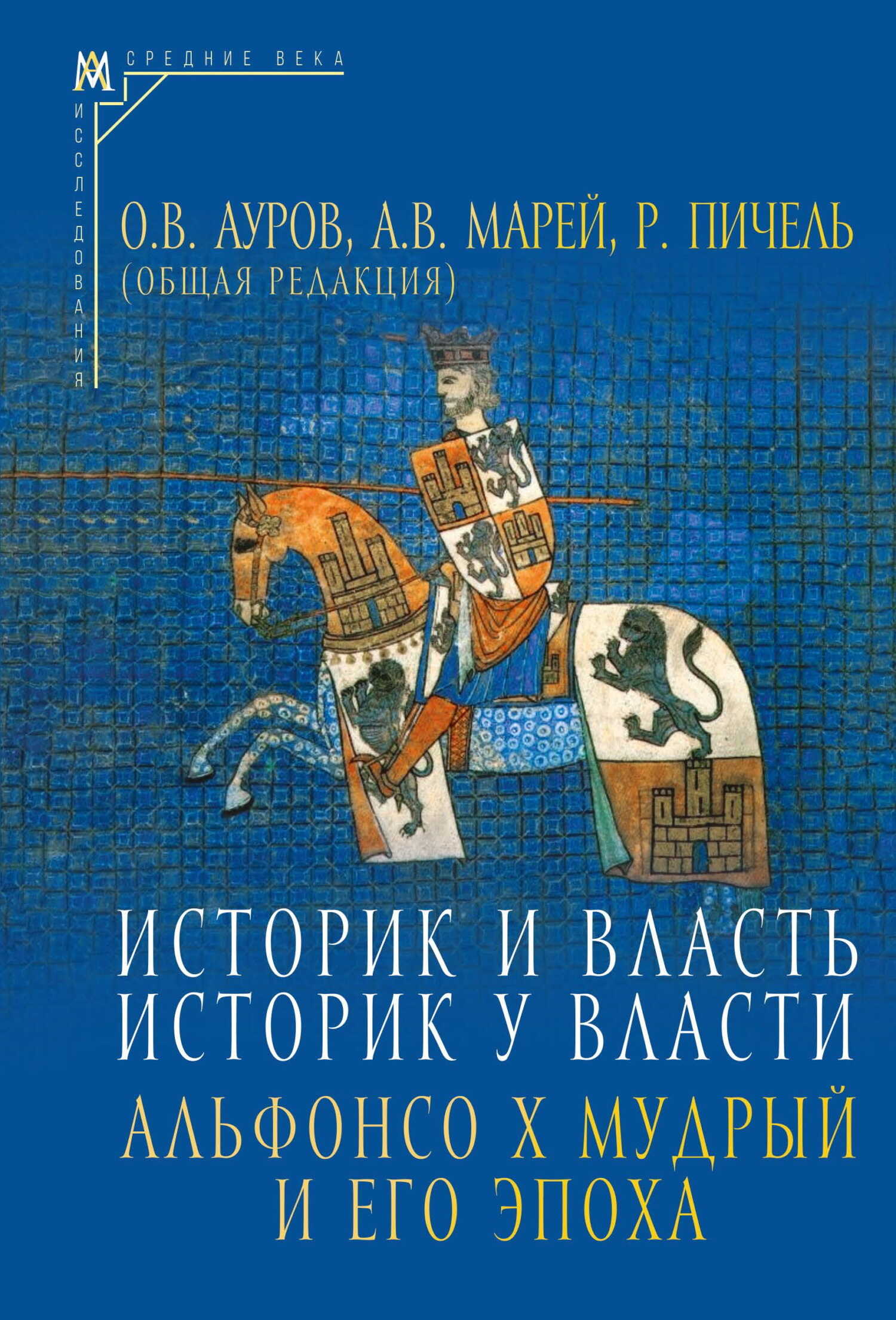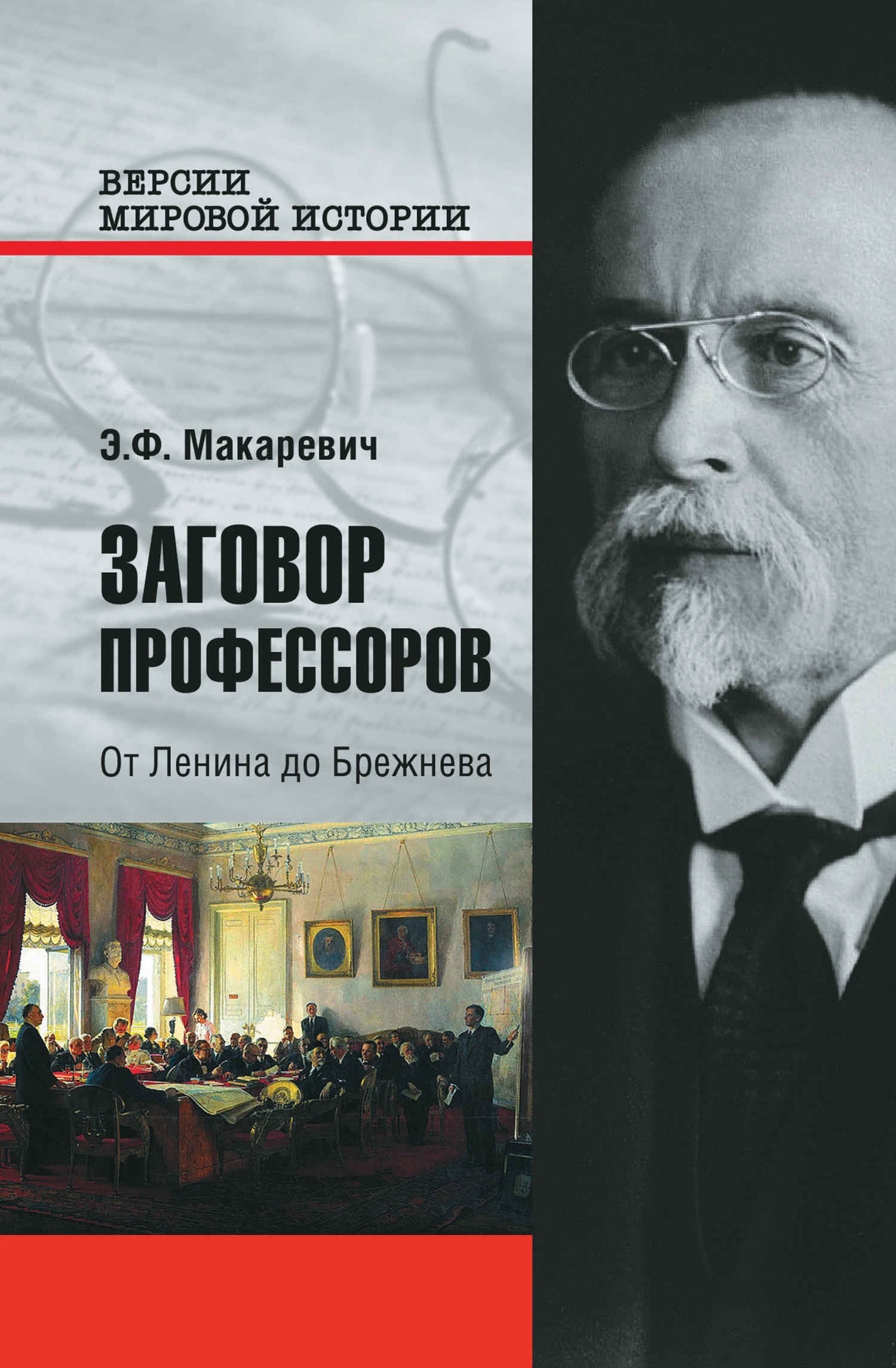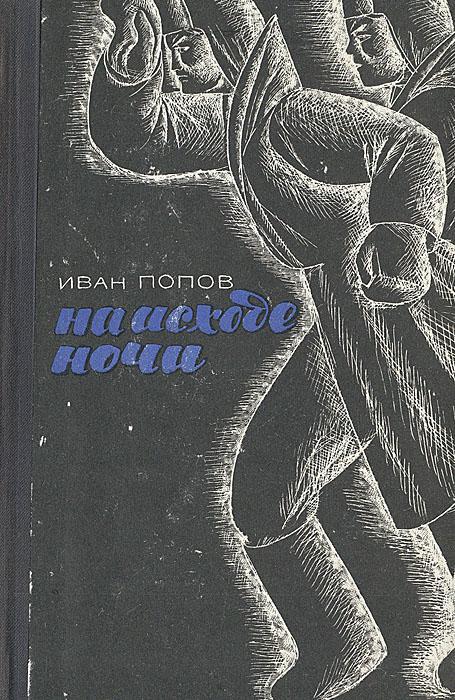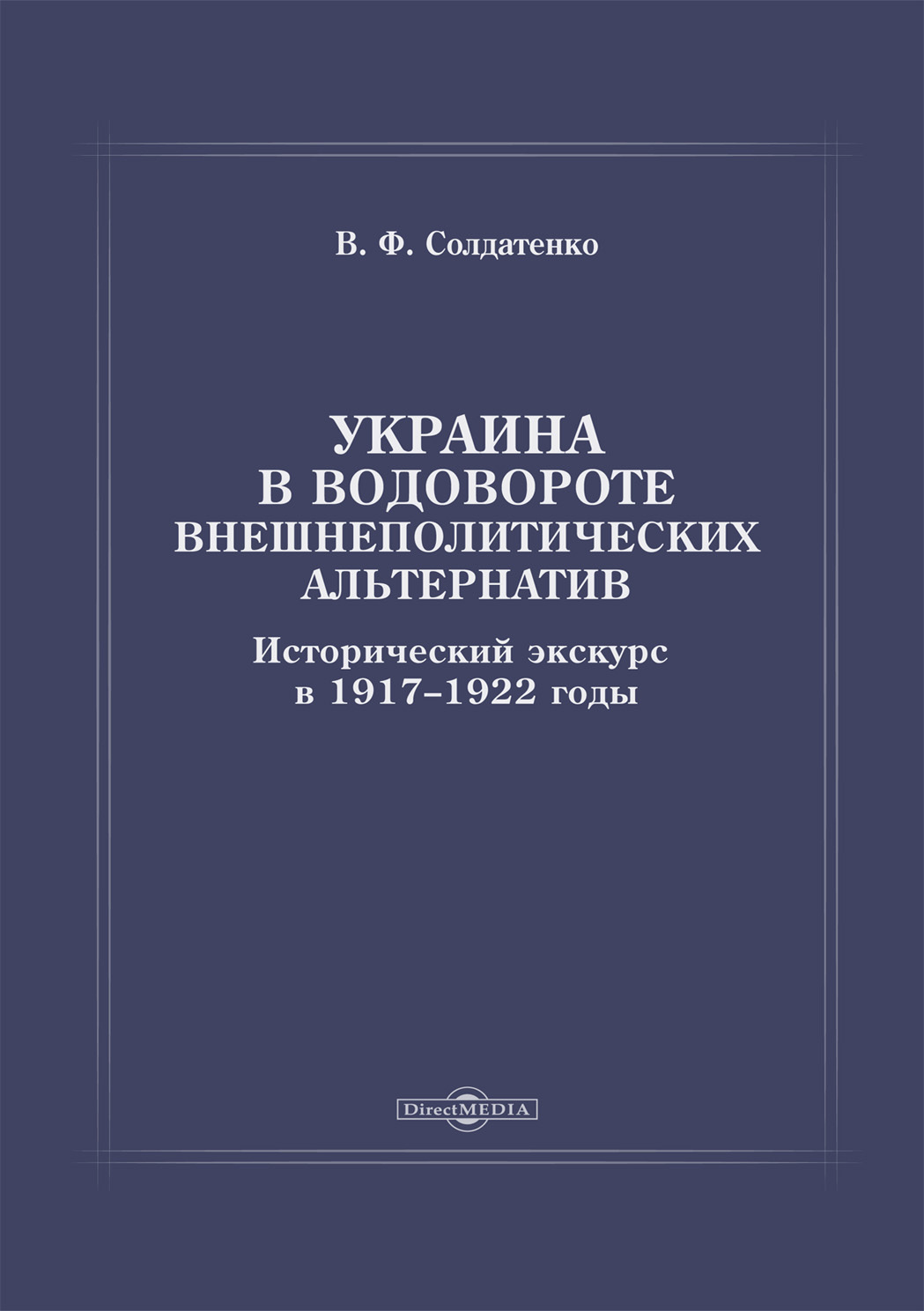Шрифт:
Закладка:
В мае 1922 года В. И. Ленин предложил заменить применение смертной казни для активно выступающих против советской власти высылкой за границу: «…Всё это явные контрреволюционеры, пособники Антанты, организация её слуг и шпионов и растлителей учащейся молодёжи. Надо поставить дело так, чтобы этих «военных шпионов» изловить и излавливать постоянно и систематически и высылать за границу»…Осенью 1922-го года несколько огромных лайнеров отчалили от берегов и увезли лучших людей своей эпохи в вечное изгнание. Среди них были и русские философы вроде Бердяева и Ильина, и великие поэты Серебряного века, вроде Зинаиды Гиппиус.Ф. Степун писал: «…одно зимнее и одно летнее пальто, один костюм, по две штуки всякого белья, две денные рубашки, две ночные, две пары кальсон, две пары чулок. Золотые вещи, драгоценные камни, за исключением венчальных колец, были к вывозу запрещены; даже и нательные кресты надо было снимать с шеи. Кроме вещей разрешалось, впрочем, взять небольшое количество валюты, если не ошибаюсь, по 20 долларов на человека; но откуда её взять, когда за хранение её полагалась тюрьма, а в отдельных случаях даже и смертная казнь».Как сложились судьбы этих людей? О чем думали они, покидая страну, которой оказались не нужны? Обо всем этом вы узнаете из книги, которую и составили воспоминания философов, историков и писателей, отправившихся в вечное изгнание на «философских пароходах».В формате a4.pdf сохранен издательский макет.