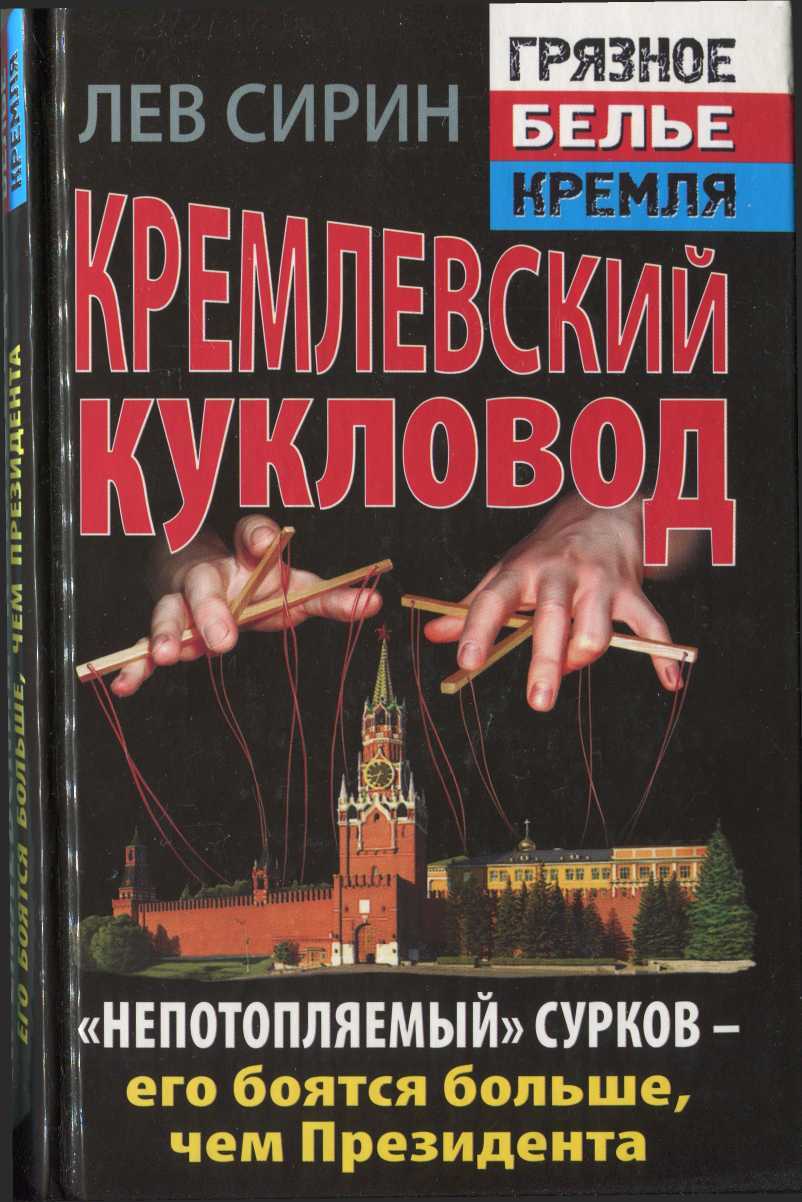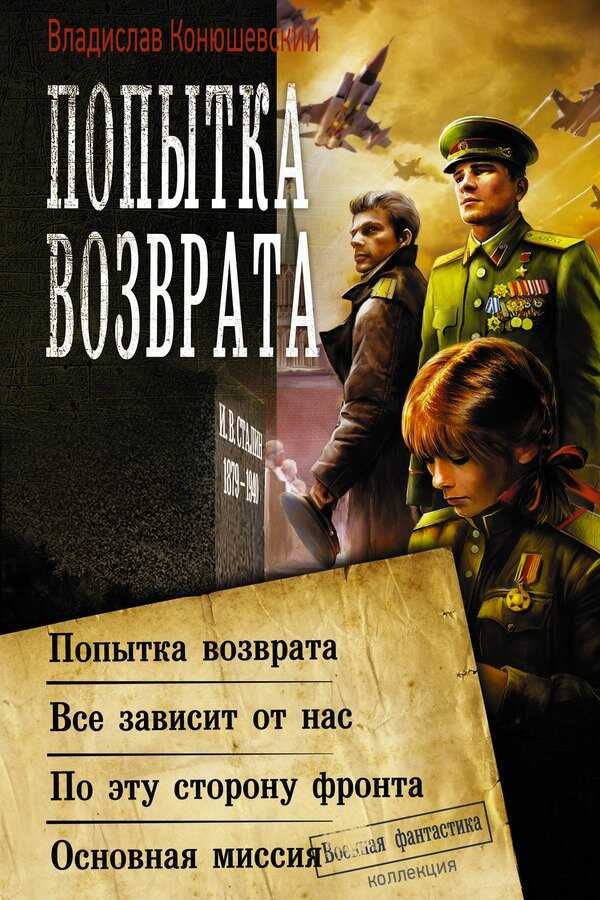Шрифт:
Закладка:
Его величают «кремлевским кукловодом» и «серым кардиналом Путина». Его боятся больше, чем Президента, и ненавидят все противники режима — и «либералы», и коммунисты, и «ура-патриоты». Ему приписывают колоссальное влияние на российскую политику. Говорят, Владислав Сурков может в считаные месяцы слепить партийного вождя, а затем в одночасье свергнуть его с политического Олимпа. Говорят, это он придумал таких «политических марионеток», как олигарх Прохоров, сенатор Миронов, державник Рогозин, а потом втоптал в грязь вместе с их ручными партиями. Говорят, именно он уничтожил Лужкова и «замочил» в эфире Аллу Пугачеву, когда она посмела сказать: «Сурков сошел с ума!» Что в этих слухах преувеличено, а что — чистая правда? С какого черного входа он попал в «большую политику» и почему столько лет остается «непотопляемым»? Как, работая на ключевых должностях у главных врагов Кремля — Березовского и Ходорковского, — Сурков не только не пошел на дно вместе с ними, но и поднялся на их невзгодах? Зачем он повесил в кабинете портрет Барака Обамы и все ли у него в порядке с документами? Какое у него состояние и где он его держит? И, наконец, кто его главный враг и не ждет ли нас в скором будущем отставка «кремлевского кукловода»?